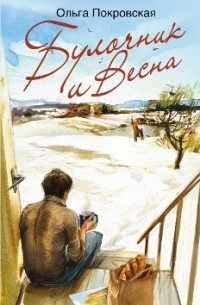Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
16. Дикий пирог
Шли деньки, и нежная красота Старой Весны подёрнулась патиной. Миф о вечном пристанище – светлой родине моего прадеда – канул вместе с хорошей погодой. Теперь, влетая после работы в бытовку, я прибавлял жару в рефлекторе и скорей забивался в сон, чтоб только не успеть осознать свою дурь и сиротство.
Невзирая на осень, трудами Петиной бригады над глинистыми ухабами поднимался сруб. Жители деревни останавливались чуть поодаль, молча интересуясь строительством, и с каждым днём им приходилось запрокидывать голову на венец выше.
Скоро дом всей своей простой и крепкой статью проступил из небытия. Он был светлый и голый. В его новых косточках пел старовесенний ветер. Я позвал Петю полюбоваться плодами его заботы, но мой друг оказался слишком занят, чтобы приехать.
Взяв в высотных работах трёхдневную паузу, его бойцы установили мне и забор. Теперь откуда ни глянь на холм – в глаза лез частокол, покрытый рыжеватой пропиткой. Бывало, я выходил утром, и мне самому становилось как-то квадратно. Как будто это меня обстучали колышками по периметру.
Заходя за водой, Коля искренне предупреждал: «Смотри! Пока держусь, а не удержусь – перемолочу к чёртовой бабушке на дрова!»
Во время очередной беседы, когда Коля, толкнув под кран канистру и оглядевшись, пообещал сбрить забор бульдозером, его мнение получило неожиданную поддержку.
– Это верно. Можно бы и сбрить!
В нескольких метрах от нас стоял Николай Андреич Тузин. Он подошёл неслышно, под прикрытием грохочущей по дну канистры воды. На его сутуловатые плечи была накинута всё та же, дореволюционного фасона, шинель. Серые с карими искорками глаза глядели весело, приглашая не обидеться, но посмеяться. В руке, как авоську, Тузин держал пластиковую бутыль, и весь его сценический образ, располагавшийся между романтикой и иронией, был так обаятелен, что я простил ему опасную реплику.
– Пошёл я на родник, а там в лохани, извините, дохлая мышь! – продолжал Тузин, подходя ближе. – Вот – решился к вам. Коля больно вашу палеозойскую воду хвалит!
– Не хвалю я, – огрызнулся Коля и, поскорее завинтив крышку, убрёл.
Пока набиралась вода, Тузин, замяв, как ни в чём не бывало, реплику о бульдозере, принялся выяснять, какая вышла у скважины глубина да сколько, если не секрет, пришлось заплатить за метр пробура.
Я ответил.
– Да… – улыбнулся он, считая в уме. – Мы, пожалуй, на родничок пока походим, – и, завинтив канистру, двинулся к калитке.
– Ну а строительство в какие сроки закончить планируете? – обернулся он на ходу.
Разговаривая, мы дошли до тузинского участка, и сразу за худеньким забором в гуще палой листвы я увидел шезлонг с кипой бумаг, придавленных мобильником. Ветер шевелил прозрачные яблони и время от времени стряхивал на бумаги лист или обломок ветки.
– Моё рабочее место! – сказал Тузин, кивая за забор. – Под самой осенью. Я бы даже сказал – под сенью осени! Зайдёте?
Я мотнул головой, постеснявшись своего далёкого от аккуратности вида, если вдруг он надумает официально знакомить меня с женой. Тузин не настаивал.
– Ну а вообще как вам у нас, по душе? – спросил он, опуская канистру в траву. – Нравится? Коля-то не сильно мучает вас? Кстати, слышали его гитару? Ох, душевно поёт!
Я сказал, что никто меня не мучает, но угрозы снести забор бульдозером, естественно, не вызывают во мне добрых чувств.
– А это, уважаемый Костя, что посеете, то и пожнёте. Думаете, ваша ограда у кого-нибудь вызвала добрые чувства? – не страшась, парировал Тузин. – Вы сами посмотрите – торчит на холме оранжевая челюсть! А наш холм – это ведь существо. Это Василиса Премудрая, понимаете? А вы ей – челюсть! Хоть бы выкрасили как-нибудь потише… А хотя вы не виноваты! – неожиданно прибавил он. – Ваша «челюсть» неизбежна, как власть эпохи.
Тут вскружился ветер, небо задрожало и посыпало нас крупной яблоневой листвой.
– Ну что ж, пойду к семейству. За водичку спасибо, – сказал Тузин, открывая заросшую кустами калитку, и скрылся в неубранном саду.
Я перевёл дух. Градус искренности, бытовавший на холме Старой Весны, обжигал, как купание в апрельской речке.
Сбежав с холма и взглянув снизу вверх на деревню, я убедился: мой рыжий частокол, взлетевший высоко над Колиным штакетником, совсем стёр его свежей мощью. Стёр он и полосу леса, оставив взгляду одни макушки.
Через пять минут, взяв у строителей инструмент, я с лёгкостью, с блаженством даже – как будто скинул с плеч тяжёлую ношу – отвинтил центральную секцию.
Мною как раз были уложены на брезент первые полтора метра забора, когда сзади раздался вопль.
– Сумасшедший человек! – восклицал влетевший в образовавшиеся ворота Тузин. – Вы что делаете! Назад, назад привинтите, быстро!
Я выпрямился и взглянул. Николай Андреич резво шагал мне навстречу, держа перед собой согнутую плошкой ладонь, в которой явно что-то было насыпано. Якутские бриллианты? Украинские семечки?
– Откуда мне знать, что вы ненормальный? – на ходу продолжал возмущаться он. – Если б знал – помалкивал бы! А я-то с вами как со здоровым! Нате вам вот – лучшее, что нашёл! – Он приблизился по колдобинам стройки и решительно переложил из своей ладони в мою гроздь красной рябины, гроздь черноплодки, надклёванную калину, несколько твёрдых ягод шиповника и последний, невесть как уцелевший крыжовник с чёрным пятнышком на боку.
Я взглянул на ягоды, а затем на взволнованную физиономию Тузина.
– Вот видите, я прямо как почуял! Думаю – что за чёрт меня дернул! Привязался к чужому забору. Надо бы помириться! – отряхивая ладони, продолжал объясняться он. – А как помиришься? Все гордые. Думаю, дай наберу ему ягод! Ну! Чего вы пятитесь от меня! Это же трубка мира!
Я слегка встряхнул ладонь с ягодами.
– И как её курить?
– Не курить, а пить! – уточнил Тузин. – Заварите кипятком – и грусть долой! Горько – да! Но сердце сродняется с осенью! Вы забор-то повесьте на место! Повесьте, я вам говорю! А на меня не обращайте внимания, всё это я сочиняю – про Василису, про челюсть. Сами понимаете – такая профессия. Я профессионально болен! – Он умолк и вздохнул глубоко, как человек, отстоявший свою чистую совесть. – А вы-то, Костя, кто будете? Я так думаю, любопытная у вас должна быть работа?
– У нас в городке булочная-пекарня, только открылись. Я думал, Коля вам сказал. С вашим театром, кстати, по соседству.
– Булочная-пекарня? – ахнул Тузин. – Это не к вам ребята мои бегают? Смотрю – начали таскать на репетиции калачики! Мотька, звезда наша, особенно усердствует. Я ей говорю: разъешься! Ваши калачи?
– Мои, должно быть, – признал я. – Никто в округе больше не печёт.
– Эх! Вот так да! – воскликнул Тузин и улыбнулся с искренней теплотой. – Булочника прибыло нам в деревню! С забором-то давайте помогу! – предложил он, спохватившись.
Я взглянул на его белую рубашку под шинелью и сказал, что мне помогут строители.
– Ягоды заварить не забудьте! – велел он на прощание и улетел.
Обескураженно я посмотрел на гостинцы в моей ладони. Сиротливо выстреливала из общей кучи веточка с оранжевой рябинкой. «Ты подозрительный чужак, – говорили мне ягоды Тузина. – Но мы тебя примем, потому что нам жить по соседству».
Эту заповедь братства я вдруг расслышал и понадеялся: может, и правда меня примут в мирок Старой Весны? Станут звать на варенье, угощать блинчиками.
Дома я высыпал ягоды на стол, сел и принялся выкладывать орнамент из цветных бусин, пока вдруг не увидел в уме большую ягодную ватрушку. Так чётко она представилась мне, что во рту стало горько.
Новый хлеб пишется, как стихи. Накатывает и не отпускает, пока его не задвинешь в печь.
Наутро, едва приехав на работу, я бросился воплощать фантазию. Маргоша смеялась до упаду, увидев новенький, только из принтера, ценник: «Пирог горький, с дикими ягодами. Изготовлен в единственном экз.».
Мне было зверски любопытно, кто позарится на мой «дикий» пирог, а потому в то утро я наведывался в зал чаще обычного. В отличие от Пети у меня нет дара предсказывать будущее, но на этот раз я отгадал покупателя с первого взгляда. Звякнул над дверью глиняный колокольчик, и в булочную вкатилась девчонка на роликах. Чёрные блестящие её волосы были увязаны на затылке в пучок, колючий, как воронье гнездо. На боку моталась холщовая сумка.
Меня удивило её лицо, сосредоточенное и одухотворённое, как будто она шла на разбег, на особый прыжок, в котором станет радугой или птицей.
Она быстро покидала в корзинку калачи и замерла у ценника с названием. Имя моего пирога пронзило её. Мгновение она медлила, а затем звонко объявила Анюте:
– Мне вот этих, «горьких», два!
– Тут же сказано: в единственном экземпляре! – буркнула Анюта неприветливо, за что полагалось ей, конечно, взыскание. – И на роликах у нас по залу не ездят!
– А мне бы надо два, – расстроилась девчонка, впрочем, сразу придумала выход: – Ладно, попилим! Только можно ещё ценник от него взять? Мне очень надо!
Наверно, она уломала бы Анюту, но тут подоспел «главный бухгалтер».
– Ролики снимите, женщина! – грянула Маргоша, подперев талию кулаком. – Вы нам плитку портите!
Употребить к столь юному созданию слово «женщина» можно было только в пылу неподдельной ненависти. Я понял, что пора проявиться.
– Маргош, не будет ничего с твоей плиткой, – сказал я с самой примирительной интонацией из всех, что были у меня в арсенале. Маргоша взглянула гневно и, задев меня локтем, унеслась в булочное закулисье.
Тут щёки девчонки поехали вширь, распираемые улыбкой.
– Нате вам ценник, – буркнул я, стараясь не сильно вглядываться.
– А вы тут главный, да? Это ваша булочная? – сияла роллерша. – Я так и знала, что не её! – и, победно махнув ценником, укатила.
Ночью, в двенадцатом часу, меня разбудил стук в дверь.
«Костя, открывайте!» – потребовал голос Тузина. В неизменной своей шинели, взлохмаченный ветром, он ступил на порог, держа в руке, как плошку со свечкой, блюдце с разломленным пирогом. Я бессмысленно уставился в сердцевину: вот она, рябинка, шиповник… И в поисках ответа перевёл взгляд на Тузина. Он выразительно поднял брови и кивнул.
Круговорот ягод в природе ошеломил нас обоих.
Наконец я догадался взять у него блюдце.
– Уморили вы меня! – сказал Тузин, плюхнувшись без приглашения за мой походный столик. – Такие вот чудеса, Костя. Сколько бы вы ни нашли на них логичных объяснений – всё равно это Божий промысел! Вы представьте! Нет, вы представьте в красках! – потребовал он. – Влетает Мотя, моя актриса, и протягивает мне вот эту вашу ягодную ватрушку с ценником! На ценнике – безумный текст, а в начинке я с ужасом распознаю мой крыжовничек, калинку, рябинку – всё, чего я вам вчера насобирал! Там у крыжовника на боку было такое родимое пятнышко. Сомнений нет! А дело-то в том, что как раз сейчас мы ставим пьесу, можно сказать, о горьких осенних ягодах! О том, как музы природы, призванные вдохновлять человека на создание произведений искусства, оказываются изгнаны из наших мест! Никакой вам отныне весны, никакой осени! И знаете что, Костя, вы как хотите, а я буду считать, что случайность случайностью, а мы с вами побратались! – с чувством заключил Тузин. – Во-первых, потому что вы этим пирогом засвидетельствовали своё частичное сумасшествие, что лично мне близко. Во-вторых, по-божески обошлись с Мотькой на роликах – она мне рассказала. А могли бы ведь и послать!
На следующий день около полудня сотрудница позвала меня в зал. Меня спрашивал какой-то человек. Я подумал было, что это с ревизией заскочил Петя. Но ошибся.
Худой и стремительный, с цветным салютом, рвущимся из вроде бы серых глаз, мне навстречу из-за столика поднялся Николай Андреич Тузин.
– Ну вот, Костя! Наконец я к вам! – объявил он, распахивая руки.
Я принёс нам кофе и нарезанный ломтями «хлеб погоды» со всем, что можно на него намазать. Хлеб этот, «дождливый» на срезе – со вкраплениями серых семечек подсолнуха, подтверждал сегодняшний прогноз. Уже начало моросить – тёмно-русые волосы моего гостя были влажные.
– Вы один тут у руля? – поинтересовался он, обводя любопытным взглядом стеллажи и витрины. – И как это вы решились? А я так по наивности себе представлял, что порядочные люди в наше время бизнес уж не заводят. Как, интересно, продукты вашей отваги на вкус? – И Тузин, мазнув на краешек масла, приступил к дегустации. Пока он жевал, на его ясный лоб легла забота.
– Что-то тут не так! – сказал он, проглотив. – Мне странно… Мне печально от этого хлеба… – выражение его лица стало хмурым. Внезапно на щеке дёрнулась мышца.
– Ой! – икнул Тузин и, хватаясь за живот, взглянул на меня с детским испугом. – Ой! – согнувшись, поморщился. Третьего «ой» произнести он не успел – его тело утратило тонус, ноги разъехались, руки повисли, голова рухнула на плечо. Без всяких признаков сознания Тузин сползал со стула.
– Маргош! Сюда! – заорал я, хватая в охапку его плечи и голову, и не сразу заметил, что Тузин уже приоткрыл один глаз.
– Будьте любезны мне ещё маслица. И кофейку! Я сразу очнусь – клянусь! – проговорил он слабо и подмигнул. Я разжал вынужденное объятие.
Тузин сел, причесал пятернёй волосы и уставился на меня, как на телёнка.
– Костя, ну вы даёте! Правда, что ли, поверили?
Страшно довольный, что его школьный трюк удался, он уселся поудобнее и вновь принялся за хлеб,
– А в этом хлебе и правда что-то этакое! – сообщил он мне с набитым ртом. – Он грустный! Вы, я так думаю, подмешиваете в тесто молотые осенние листья – вон, у вас во дворе нападало! Подмешиваете или нет?
На ватных ещё ногах я сходил к витрине и принёс ему табличку с «хлебом погоды». В ней стояли сегодняшнее число, температура воздуха, сила и направление ветра, информация об осадках и ниже – цена. Я объяснил ему, что в дождливый день мы выпекаем хлеб по иному рецепту, чем в солнечный, снежный, ветреный или, например, в день ледохода.
– Да вы у нас, оказывается, булочник-метеоролог! – воскликнул Тузин и, упёршись локтями в стол, посмотрел на меня умилённым взглядом – как художник на удавшееся творение. – Вы по субботам работаете или как? – вдруг спросил он.
Я пожал плечами, имея в виду, что с некоторых пор выходные перестали отличаться для меня от будней.
– Прекрасно! Значит, завтра отоспитесь как следует и дуйте к нам на завтрак! – решительно заявил Тузин. – Часиков в одиннадцать сможете? Мы с Ириной вам хозяйство покажем. Только чур никаких булок! Уж завтраком, позвольте, мы вас сами будем кормить!