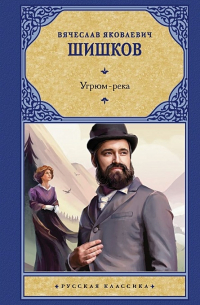Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
IV
В пышный дом Громовых вдвинулся страх. Как холодный угар, зеленоватый, струящийся, он разместился по углам, пронзил всю атмосферу жизни. Страх лег в сердце каждого.
Никто в доме не знал, как вести себя, что в данную минуту делать. Общая растерянность. Все ждали каких-то трагических событий...
Волк часто задирал башку и выл. Волка запирали в сарай, волка драли, волка задабривали котлетами, сахаром. Все равно – волк выл жутко, отчаянно. Из кухни стаями поползли во двор черные тараканы, из кладовки пропали мыши и крысы, как перед пожаром. Сбесился бык, запорол трех коров, ранил двух пьяных стражников и кучера. Днем, когда проветривался кабинет Прохора Петровича, вплыл в окно белый филин, пролетел анфиладу комнат, впорхнул в детскую и сел на кровать Верочки. Игравший на ковре ребенок пронзительно от перепуга завизжал, сбежались лакеи, филина загнали на печку и там убили. Люди толковали, что это – ожившее чучело, прилетевшее из кабинета на башне. По ночам раздавались в саду выстрелы и разбойничьи посвисты. Кухарка жаловалась, что третью ночь ее душит домовой, на четвертую – она легла спать с кучером.
Все эти страхи можно было объяснить простой случайностью, однако среди темной громовской дворни, а потом и по всему поселку пошли пересуды. Вскоре весь рабочий люд вместе со служащими и чиновным миром тоже был охвачен недугом ожидания чего-то рокового, неизбежного.
Отец Александр, встревоженный не меньше, чем кухарка, всей этой чертовщиной, ежедневно стал служить обедни с молебнами и произносить назидательные проповеди. Он разъяснял пастве всю вздорность слухов, всю греховность суеверий, он призывал пасомых к соборной молитве о даровании здравия «всечестному хозяину предприятий, болящему Прохору Петровичу Громову».
Дьякон Ферапонт на церковных службах, конечно, отсутствовал. Дьякон Ферапонт лежал в отдельной больничной палате, безропотно и мужественно перенося страдания. Простреленная шея не угрожала жизни, зато засевшая в правом легком пуля внушала серьезные опасения: дьякон, не доверяя местному доктору, не позволял извлечь ее. Из губернского города с часу на час ожидали выписанного Ниной хирурга.
Иногда, в бреду, болящий тоненько выкрикивал «благодетелю Прохору Громову многая лета», но задыхался и, безумно озираясь, вскакивал. Пред ним – Нина и вся в слезах – Манечка.
– Что, сам-то больше не сумасшествует? – озабоченно спрашивал он Нину, мычал и валился к изголовью; опять открывал глаза, трогательно говорил: – Голубушка, барыня-государыня... Забыл, как звать вашу милость... Ох, тяжко, тяжко мне. А этому самому, как его?.. скажите: умираю, а злобы на него нет настоящей. Ну что ж... Я добра хотел. Видит Бог. Тебя жалко было, себя жалко, всех жалко... Его жалко. Думал – лучше. А он меня, как медведя. Разве я медведь? Я хоть паршивенький, да дьякон. – Он хватался за грудь, тянулся рукой к Нине, гладил ее по коленке, радостно кивал Манечке, говорил булькающим шепотом: – Кузнецом, кузнецом меня сделай. Расстриги... Недостоин бо.
Нина тяжко поднимала его тяжелую руку и с немой благодарностью, глотая слезы, прижимала ее к своим губам.
Отец Александр, постаревший, согнувшийся, просиживал вместе с Манечкой возле изголовья больного все ночи.
– Батюшка! Отец святой... Недолго довелось мне послужить Господу.
– Еще послужишь, брат Ферапонт, – вздыхал батюшка. – Бог милосерд и скорбям нашим утешитель.
– Бог-то милосерд, да черт немилостив. За ноги тащит меня в тартар. Боюсь, батя, боюсь!.. Положи скорей руки на голову мне. Благослови. Черный, черный дьявол... Геть! – И дьякон с силой отлягивался от нечистика.
Так плывут дни по Угрюм-реке, так колеблется вся жизнь людей между берегом и берегом.
Прохор Петрович, весь поднятый на дыбы, весь взбудораженный, крепко избитый дьяконом, не мог заснуть после скандала трое суток.
Его нервы распущены, как вожжи у пьяного кучера. Часами шагая по кабинету, он старался собрать их в один узел, норовил ввести в колею свое распавшееся, как ртуть по стеклу, сознание, хотел снова стать нормальным человеком. С натугой он припоминал, что произошло между ним и Ферапонтом, но память дремала и, как дикий сон, преподносила ему лишь бутылки, драку, выстрелы. «Так ему и надо, так ему и надо, дураку. Бить? Меня? Мерзавец... Я ж его из грязи поднял». Он не справлялся об участи дьякона, ему тоже никто не говорил об этом, но он помнил, как дьякон, напуганный, убежал в дверь, ругаясь. «Значит, все в порядке... Значит, жив...» То вдруг ему становилось жаль дьякона. «Ведь я ж стрелял в него. Может быть, ранил, может быть, убил. Нет, нет, чепуха. Как я, пьяный, мог его подстрелить? Чушь!..» – успокаивал он себя. «А вдруг шальная пуля?..»
Несколько минут он стоял в раздумье, закрыв глаза рукой и напрягая мысль.
«Убил, убил, убил, убил», – начинает зудить в уши задирчивый голос. «Убил, убил, убил». Прохор звонит. Входит старый лакей.
– Слушай, Тихон... Что с дьяконом?
– А ничего-с.
– Он здоров?
Лакей мнется, с испугом смотрит на хозяина и, растерянно взмигивая, говорит:
– Так точно... Отцы дьяконы здоровы. Ничего-с.
Прохор Петрович успокаивается окончательно. Подходит к зеркальному шкафу, всматривается в стекло, не узнает себя. С подбитым глазом, с опухшим носом, неопрятный, но грозный бородач глядит на него. Прохору противно, страшно. «Красив молодчик!.. Бродяга... Пьяница... А кто довел? Они».
Мир для него раскололся теперь надвое: «они» и «я».
И стали в душе Прохора два противоборствующих мира, как два разъятых Угрюм-рекою берега. На одном берегу – он сам, Прохор Громов, великий, осиянный славой строитель жизни, властелин рабов, будущий обладатель миллиарда. На другом берегу – они, враги его: отец, Нина, Протасов, поп, черкес, рабочие. С ним – дерзновение, железная сила, воля к борьбе. Против него – человеческая, тормозящая его работу слякоть. С ним – свет, против него – вся тьма. С ним – опыт упорного созидания, против него – тупая, инертная природа. С ним – гений, против него – толпы идиотов.
Так с опрокинутой вверх ногами вершины гениальности казались Прохору Петровичу два враждующих друг с другом мира: «они» и «я».
Адольф Генрихович Апперцепциус теперь появляется к Прохору Петровичу с опаской: постучит в дверь, войдет, зорко окинет фигуру больного и, притворяясь беспечно-веселым, подплывает к нему с распростертыми руками:
– Дорогой мой, здравствуйте! А поглядите-ка, погода-то какая!.. Прелесть! Солнце, свежий ветерок, осыпается золото листьев. Пойдемте-ка пройдемтесь.
– А вы все еще не уехали?
– Нет. А что? Мое присутствие вас...
– Вы получаете сто рублей в день. Так? Если уедете, будете получать по двести рублей и в продолжение месяца. Но только чтоб быстро! Согласны?
Не вполне поняв, серьезно или в шутку это сказано, доктор пробует широко улыбнуться, склоняя лунообразную голову то к правому, то к левому плечу.
– И передайте Нине Яковлевне, – у меня нет охоты видеться с ней, – передайте этой умнейшей даме, что если она позволит себе надеть на меня сумасшедшую рубаху, я и ее убью, и себя убью. Вы не думайте, что я безоружен. – Прохор быстро поднялся с кресла, распахнул халат и выхватил торчавший за поясом короткий испанский кинжал. – Не бойтесь, не бойтесь, – успокоил он доктора, на лице которого задергались мускулы. – Не бойтесь. Я не сумасшедший. Можете вязать кого хотите: Тихона, Нину, попа... А я, извините, пожалуйста, я в вашей помощи нимало не нуждаюсь. Хотите, я к завтраму буду совершенно нормален? Состояние моего здоровья зависит от меня, а не от вас. Хотите пари? Впрочем, у вас нет ничего, вы весь голый, как ваш череп. Я предлагаю пари Нине. На сто тысяч. На миллион!! Я завтра – здоров. До свиданья...
– Но, Прохор Петрович!.. Дорогой мой. Вот микстура. Препарат брома. Регулирует отправление нервов...
– А, спасибо. – Прохор взял бутылку из рук доктора, подошел к окну и выбросил ее в фортку. – Пожалуйста, не пытайтесь отравить меня. Я ваши штучки знаю. Передайте Нине, что я ее столом больше не пользуюсь. Да, да, не пользуюсь. Я сегодня обедаю у Иннокентия Филатыча. А завтра – у Стеши. И вообще я скоро уйду от вас. Да, да, уйду. И в очень далекие края. Уж тогда-то, надеюсь, вы меня оставите в покое. Вы видите: Синильга дожидается меня возле камина, – стал врать Прохор, запугивая доктора. – Сейчас, Синильга, сейчас!.. Идите, доктор, а то она и вас задушит. Да, да, не улыбайтесь, пожалуйста. До свиданья, доктор! Прощайте, прощайте, прощайте... – И Прохор Петрович, взяв доктора за полные плечи, начал мягко выталкивать из кабинета. Затем захлопнул за ним дверь и вдруг действительно услыхал от камина голос:
– «Да, ты не ошибся. Я – Синильга. А хочешь, я в тебя залезу, и ты с ума сойдешь...»
У Прохора зашевелились на затылке волосы. Крепко запахнув халат, он подбежал к камину. Пусто. Лишь страх сгущался по углам. Грудь Прохора дышала вперебой со свистом.
– Черт, дурак!.. Набормотал глупостей. Вот и погрезилось. Осел! – Он позвонил. – Позови сюда дьякона, – сказал он лакею; тот переступал с ноги на ногу, мялся. – Ну, что? Ты слышал? И чтоб водки захватил. Впрочем, к черту! Беги к Иннокентию Филатычу, чтоб шел сюда.
– Слушаюсь. – И лакей повернулся на каблуках.
– Стой! Не надо. Садись. Сиди здесь. В шахматы играешь?
– Плоховато, барин.
– Дурак... Тогда – убирайся... Впрочем, стой! Помоги одеться мне. А пока садись. Садись, тебе говорят!
Лакей сел. Прохор позвонил по телефону:
– Контора? Правителя дел сюда. Да, да, я! – Прохор насупил брови. – Слушайте, приготовьте мне к завтрашнему вечеру сводку нашей задолженности угля дороге. Что? Что-о-о? Кто приехал? Какая приемочная комиссия? Вот так раз. Сам Приперентьев? Гоните в шею, в зубы, башкой об стену! Впрочем, не надо! Ах, сволочи! Ну ладно. Я буду там.
Прохор сорвал с себя халат и, размахивая им, стал торопливо ходить по кабинету.
– Кто это там воет? – крикнул, остановился и швырнул халат к стене.
– Волк, барин.
– Я не волк! Я не волк! Я Прохор Громов. Барин есть барин, а волк есть волк... Сапоги! – Обуваясь, бубнил: – Пусть отбирают. Пусть, пусть. Мне теперь ничего не жалко. Протестуются векселя? Знаю!.. Механический завод стоит? Знаю... Пароход затонул? Знаю... Все знаю, все понимаю, – крах идет, крах идет! Ну и наплевать! Сначала я всех жрал, теперь меня жрут. Наплевать, наплевать, наплевать!.. Врете, сволочи, подавитесь, не вы меня, а я вас сожру с сапогами вместе. Уж поверь, старик. Слушай, Тихон, милый!.. Покличь отца. Он мерзавец. Он не имел права интриги с Анфисой заводить, я Анфису люблю до сумасшествия. Он подлец! Я ему в морду дам. Покличь его.
Старый Тихон, державший наготове брюки, кротко улыбнулся и сказал:
– Ваш папашенька, барин, в селе Медведеве изволят жить.
– Ах, с Анюткой? А ты знаешь, старик, что Анютка была моей любовницей?
– Неправда, барин. Это вы на себя клеветать изволите. Это было бы очень ужасно и для вас, и для папашеньки.
Прохор, вздохнув, улыбнулся и, застегивая брюки, сказал:
– Хороший ты человек, Тихон. Эх, жизнь прожита! И я был бы хорошим. Будь Анфиса жива, мы бы с ней наделали делов... Ну, ладно. Давай жилетку. Теплый полушубок приготовь. Грешный я, грешный, брат, человек... Грешный, каюсь. А тебя люблю. Только пожалей меня, в обиду не давай. Я так и в завещании... Богат будешь... Богу молись обо мне. Чувствую, что отравят. Покличь-ка Петра с Кузьмой.
Вошли караулившие у входа два здоровенных бритых дяди в сюртуках и белых перчатках.
– Вот что, ребята, – сказал им Прохор Петрович, встряхивая полушубок. – Нина вам платит жалованье и душеспасительные книжки раздает. А я вам по пяти тысяч. В завещании. Только – поберегите меня! Не давайте в обиду. В морду всех бейте. Идите, ребята, Кузьма с Петром. Лошади готовы? Ну, прощай, Тихон. – Прохор обнял его и поцеловал.
Старый лакей уткнулся носом в грудь хозяина, искренне завсхлипывал.
Прохор Петрович говорил с поспешностью, одевался с поспешностью и с поспешностью ушел.
Кучер подал лошадь, Прохор мельком осмотрел себя, чтобы удостовериться, не забыл ли переодеть халат, сел в пролетку, отпустил кучера, взял в горсть вожжи и поехал один. Ему некого теперь бояться: Ибрагима нет в живых, и шайка его разбита. Следом за хозяином и тайно от него выехали доктор Апперцепциус, с ним Кузьма и Петр и четыре вооруженных верховых стражника.
Кабинет пуст. По углам кабинета чахнет страх, неслышный, холодный, пугающий. Страх дожидается ночи, чтоб, окрепнув, встать до потолка, оледенить пылающий мозг хозяина и, оледенив, бросить в пламя бреда.
Старый Тихон прибирает кабинет и, поджав губы, покашивается на углы: в углах кто-то гнездится, дышит. Тихона одолевает оторопь. Тихон передергивает плечами, крестится, на цыпочках спешит к двери. Кто-то норовит схватить его сзади за фалды фрака. Тихон опрометью – вон.
Страхом набиты покои Громовых, кухня, службы. Страх, как угар, разметался далече во все стороны.
В страхе, в томительном ожидании сидели у постели больного Ферапонта люди. Иннокентий Филатыч сокрушенно вздыхал и сморкался в красный платок. В бархатных сапогах – ноги его жалостно подкорючены под стул. «Господи, помилуй... Господи, помилуй», – удрученно, не переставая, шептал он.
Дьякон величаво строг, но плох. Делавший ему операцию приезжий хирург определил общее заражение крови. Борясь с недугом, дьякон бодрится. По его просьбе Нина Яковлевна доставила в его палату граммофон. «Херувимская» Чайковского сменяется пластинкой с ектеньями столичного протодьякона Розова.
Ферапонт морщится.
– Слабо, слабо, – говорит он. – Когда я служил у Исаакия, я лучше возглашал: сам император зашатался.
Отец Александр горестно переглядывается с Ниной; Манечка, вся красная, вспухшая от слез, подносит платок к глазам.
Дьякон просит поставить его любимую пластинку – Гришку Кутерьму и деву Февронию из «Града Китежа».
Знаменитый певец Ершов дает реплику деве Февронии:
Дева Феврония испуганно вопрошает:
И трогательно, с нервным надрывом, который тотчас же захлестывает всех слушающих, Гришка Кутерьма с кровью отрывает слова от сердца:
Ответных слов Февронии – «Не ропщи на долю горькую, в том велика тайна Божия» – уже почти никто не слышит. Всякому ясно представляется, что этот спившийся с кругу, но по-детски чистый сердцем умирающий дьякон Ферапонт имеет ту же проклятую судьбу, что и жалкий, погубивший свою душу Гришка. Ясней же всех это чувствует сам дьякон. В неизреченной тоске, которая рушится на него подобно могильной глыбе, он дико вращает большими, воспаленными, глубоко запавшими глазами, и широкий рот его дрожит, кривится. Последнее отчаянье, насквозь пронзая сердце, вздымает его руки вверх (левая рука в лубке); с гогочущим воплем, от которого вдруг становится всем жутко, он запускает мозолистые пальцы себе в волосы и весь трясется в холодных, как хрустящий саван, сухих рыданиях.
Пластинка обрывается. Входит хирург. Сквозь истеричные, подавленные всхлипы собравшихся сердито говорит:
– Волнения больному вредны.
Нина вскидывает на него просветленные, в слезах, глаза и снова утыкается в платок.