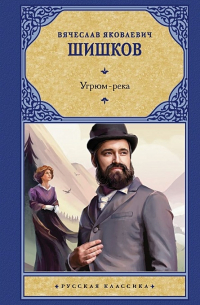Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
VII
«Смерть не имеет образа, но все, что носит вид земных существ, – поглотит». Так сказал Люцифер в «Каине» Байрона.
Но это наполовину лишь правда. Каждая смерть носит свой образ, свой лик и повадку свою.
Бывает так: брякнешься, ахнешь, и – нет тебя. Сразу, мгновенно.
Иногда смерть является дряхлой старухой. Она вся – в тленных болезнях, в горчичниках, в пластыре, как в заплатах зипун. За плечами мешок, набитый склянками капель, втираний, на мешке нездоровое слово «Аптека». Человек до тех пор не может умереть, пока не выпьет по капелькам весь мешок снадобий. Потом вытянет ноги – крышка.
Бывает смерть на миру; к ней никто не готовится, она внезапна, как гром. «Разойдись!» Сигнальный рожок. И – залп, залп, залп. Груда трупов... Эта скорбная смерть очень обидна. Эта смерть заносится на страницы истории.
А то: живет здоровяк, вдоволь ест, пьянствует, курит, бесится, пытает природу, ночь в день и день в ночь. И все нипочем ему: не крякнет и крепок, как дуб. Он бессмертен. Но вот где-то там, возле желудка, заскучал червячок: и гложет, и гложет. Что? К сожалению – рак. Нож оператора, передышка на годик и – смерть... Эта смерть, как из-под тиха собака: «Х-ам!» – и вы вздрогнули.
Бывает, но редко, и так: два столба с перекладиной, несколько перекинутых петель. Внизу – общая яма. Соседи благополучно повешены. Но вот... Под одним петля лопнула, он оборвался, кричит: «Не зарывайте, я жив!» Толпа зевак с ревом: «Невинен, невинен!» – мчится к живому покойнику. Залп в воздух – толпа врассыпную, и пуля – раз, раз – добивает невинного. Эта смерть – красная. Она страшна лишь для слабых.
Случается так: человек тонет. В отчаянных воплях о помощи он в страшном боренье с водой. Небо качается, вся жизнь, весь свет вылезает из глаз. Крик все слабее, все тоньше, и нет и нет помощи. Пронзительный визг, и – аминь. Смерть – из лютых лютая.
Иному смерть выпадет, как занесенный топор, или нож, или стук револьвера.
Но нет страшней смерти в гробу, под тяжелой землей, когда спящий покойник проснется в великий страх, в великую муку себе и новую смерть, горше первой. Уж лучше бы не родиться тому человеку на свет.
Страшен час смерти, но, может быть, миг рождения бесконечно страшней. Однако никто из людей не в силах сказать и не скажет: «Что есть смерть моя?»
Все смерти опасны, жутки, жестоки.
Впрочем, сколько людей – столько смертей. Обо всех не расскажешь. Да и не надобно...
Давайте опишем последние дни Прохора Громова, последний бег его в смерть и этим закроем страницы романа.
В немногие моменты просветления мысли Прохор Петрович Громов, осененный редкой силой духа, делал яркую оценку своему собственному «я».
Вот один из документов, найденных впоследствии в личных делах Прохора Петровича. Эта записка дает некоторый ключ к разгадке незаурядной натуры его. Приводим ее целиком:
«МЫСЛЬ О МЫСЛЯХ МЫСЛИ, ИЛИ ВЫВЕРНУТАЯ НАИЗНАНКУ ДУША МОЯ
Кто я, выродок из выродков? Я ни во что, я никому не верю. Для меня нет Бога, нет черта. Я не рационалист, как Протасов, потому что не верю и в разум. Я не материалист, потому что недостаточно образован, да и лень разбираться во всей этой дребедени строения вещества. Я не социалист, потому что люблю только себя. Я не монархист, потому что сам себе я Бог и царь.
Может статься, во мне живет уваженье к человечеству? Нет. Сентиментальное слюнтяйство для меня противно. К отдельным личностям я отношусь то холодно, то злобно. И всегда – подозрительно. Дорожу лишь теми людьми, кто мне полезен, и до тех пор, пока они нужны мне.
Я никого не люблю, я никому не верю. Я когда-то беззаветно любил Анфису и верил ей, но я умертвил ее. Я любил, я верил Ибрагиму и предал его. Я любил волка, но и тот возненавидел меня.
У меня нет друзей. Никогда, за всю жизнь не было друга. У меня нет жены, у меня есть лишь Нина, которую я замышлял убить. Правда, у меня есть дочь, но она в моем обиходе – не более как знак равнодушного удивления: она не нужна мне.
Так кто же, кто же я сегодняшний? Бесчувственный камень, скала? Нет. Я хуже скалы, я бесполезней камня: скала стоит, как стояла, она пассивна в жизни, я же деятелен, я не в меру активен.
В душе моей стихийное себялюбие: я всегда противопоставлял себя миру, я боролся с миром, я – червь бессильный – хотел победить его. Я горд, я заносчив, я лют и жесток. Я могу разрубить топором череп отцу, я бритвой могу перерезать...» (Фраза осталась незаконченной.)
«Я не верю в справедливость, я не верю в искренность, в дружбу, в долг, честь. Я не верю в добро, в бескорыстную любовь человека к человеку. Я ни во что не верю.
Я, сегодняшний, ничему не верю, ничему не верю: нет в мире того, чему можно бы поверить. Достоверна лишь смерть. И вот я, Прохор Громов, подвожу итоги своей тридцатитрехлетней жизни и заявляю сам себе: я верю только в смерть, только в смерть, как избавительницу от всякого безверия.
Да, да... Прохор Громов сошел с ума, Прохора Громова не стало. Пройдет еще малое мгновенье, и душа его, содрогаясь, упадет в вечную тьму. Горе, горе Прохору Громову. И некому понять, некому искренне, от всего сердца, пожалеть его. Ему бы не нужно родиться на свет. Горе Прохору...
Да, правильно, правильно. Когда-то читал, когда-то подчеркнул в своих мыслях, а вот теперь вспомнил эти слова. Шекспир про меня сказал: «Ничего не осталось, кроме воспоминаний о том, чем ты был, чтоб усиливать твою муку о том, что ты теперь». Ну что ж... Больше добавить мне нечего».
(Далее в записке четыре строки густо зачеркнуты. А еще ниже – небрежно начерчено чье-то горбоносое, бородатое лицо, вероятно – Ибрагима-Оглы: плешь, страшные глаза. И еще ниже – большая черная змея, извиваясь, гонится за маленьким убегающим человечком. Затем – опять текст.)
«Но стой, стой! Когда-то там, в тайге, среди разбойников, я говорил прокурору... Да, да, говорил. Я сказал ему, что в юности я тоже был добр сердцем, мысль моя была ясна, помышления чисты...
Что же нужно тебе, Прохор, для душевного спокойствия? Для спокойствия души тебе нужно, Прохор, вернуться к своей юности, принять живую Анфису в свое сердце, навсегда соединиться с ней. Но Анфисы нет, возврата к прошлому нет, лишь сосущая тоска по Анфисе, и ты, Прохор Петрович, умер. Значит, правильно говорят старики: живи, да оглядывайся».
(Далее идут заключительные фразы. Они написаны совершенно другим почерком. Буквы крупные, острые, как взмахи кинжала. Все строки густо подчеркнуты. Восклицательный знак в конце брошен, как жало змеи, как смертельный удар копья: перо сломалось и брызнуло. Видимо, здесь депрессия кончилась, дух взвился и сброшен был в бездну отчаянья.)
«Будь проклято чрево, родившее меня! Будь проклята земля, соблазнившая Прохора Громова свиными соблазнами, будь проклято небо, что не послало мне непрошеной помощи! Смерть, смерть, возьми меня!»
(Этот ценный человеческий документ хотя и не датирован, но, по заключению экспертов, относится ко времени наивысшего развития душевной болезни Прохора Петровича Громова.)
И еще найдено недоконченное письмо Прохора:
«Нина, если мне суждено умертвить себя, знай, что Прохор Громов казнит себя за то, что не он победил жизнь, а жизнь победила его. «Гордыня, гордынюшка заела тебя», – говорили мне старцы. Да, сатанинская гордость не позволяет пережить мне полного краха всего дела моего. Крах неожиданно, неимоверно быстро обрушился на меня. И вот Прохор Громов, коммерческий гений, – раздавлен. В данный момент...»
Недавно мистер Кук обозрел во дворце Громовых отведенные ему три комнаты рядом с покоями отца Александра. Мистер был поражен и растроган роскошью своего нового жилища. Он шептал: «Колоссаль, колоссаль», а в мыслях прикидывал: «Миссис Нина, без сомнения, любит меня: мистер Громофф скоро будет околеть, Протасова не существует. Эрго: я, мистер Кук, инженер, стану всесильным». Он ухмыльнулся, даже вспомнил пословицу, он слышал ее от лакея Ивана: «Вот придет великий пост, а коту дадут маслица». Нет, что ни говори, а негр Гарри – величайший сердцевед и пророк. Да здравствует всемирная хиромантия!..
Восторженный мистер Кук возвращался домой вприсядку. Велел подать самовар, рому и полученную из Америки бутылку виски. Подвыпив, он утратил правильный выговор, важно нахмурил лоб и сказал Ивану:
– Завтра придут шесть крестьянски мушик, будут немножечко таскать мои вещи во дворец Нины Яковлевны. Я закажу тебе, Фан Фаныч, золотой ливрей, прибавлю жалованье. О!
Иван в широкой улыбке оскалил зубы, пустил слюну благодарности и задвигал ушами. Но вот внезапный звонок, шуршащий хруст юбок, и пышнотелая Наденька, не поздоровавшись с мистером Куком, гневно уселась без приглашенья за чайный стол. Мистер Кук вопросительно поднял брови и выпучил на гостью полупьяные глаза.
А с Наденькой вот что. Выплакав на груди пана Парчевского скромное количество вдовьих слез, она готова была отдать молодому красавцу руку, сердце и все награбленное убитым мужем состояние. Однако Парчевский – себе на уме: он знает наверное, что недолог тот час, когда вельможная пани Нина тоже отдаст ему руку, сердце и все награбленное мужем богатство. И вот бурная сцена с Наденькой: предложенье с ее стороны, отказ, новое предложенье и новый отказ, угроза, истерика, взвизг, две оплеухи, ответный удар по шее, крик, дверь – и Наденька вылетела...
Да, надо спешить, а то все проворонишь. Там сорвалось, а здесь-то уж вывезет: уж Наденька знает, как настращать этого заморского индюка «мистера Кукиша».
– Не пяль заграничные глаза, – строго сказала она вдруг поглупевшему хожэину. – К Громовой переезжать?.. Я тебе так перееду, в тюрьме сгниешь!.. Ты со мной жил – ты должен жениться на мне. Я к судье обращалась, он в законы смотрел. По закону хочешь не хочешь – женись.
Нижняя губа мистера Кука потешно отвисла, сигара упала изо рта, рябь веснушек густо проступила через пудру.
– Я ни в какой мере, глубокоуважающий Надя, жениться не собираюсь. О нет... Это уж очшень слишком... Глюпо, глюпо!
– Ты со мной жил? Жил. Есть свидетели. Я от тебя беременна. Видишь? – И Наденька поднялась, выпятила живот, вызывающе запрокинула голову.
Мистер Кук, брезгливо косясь на чрезмерное чрево вдовицы, засопел, запыхтел, зашептал:
– Колоссаль, колоссаль, о, о!.. – и крикнул сурово: – Но это... это спроектироваль мистер Парчевский! О да, о да!.. Меня не проводишь!! Нет, нет, нет!
Тут мистер Кук залпом выпил стакан смеси виски и рому. Без приглашения выпила рому и Наденька.
– Дурак, – сказала она, слегка пощипывая свою бородавочку. – Владьки Парчевского в то время и не было здесь. А что ты шляешься ко мне – всяк знает. Я судье заявила на другой же день, как ты у меня ночевал. По нашим законам или женись, или в двадцать четыре часа тебя, чужестранца, вышлют как последнего бродягу... Я вдова исправника и считаюсь по закону – высокопоставленная особа... Понял?
– Вздор, вздор!.. – воскликнул внезапно повеселевший мистер Кук и вытер вспотевший лоб чайной салфеточкой. – О нет! Меня не проводишь. У вас был муж, сам исправник, ребенок регистрируется за мужем. Факт!
– Дурак мериканский!.. Мы с мужем девять лет жили, да детей не было. Нет, брат, ты не виляй заграничным хвостом, а то хуже будет.
– Вждор, абсурд! А вот станем собрать эксперт! Пусть экспертиза маленечко установится, чей родится сынка: американский подданный или полячочек?..
Туча притворной суровости Наденьки лопнула, сразу пробрызнул ее темперамент: наморщив чуть вздернутый нос, она рассыпалась хохотом:
– Ну и дурак ты, Кукиш! Вот дурак! И откуда ж ты знаешь, что сын родится? А может быть, дочка...
Руки мистера Кука тряслись, сердце ныло. Он тщетно искал по карманам пижамы платок, потерянным голосом приказал лакею:
– Ифан!.. Трапочка, трапочка. Немножко сморкать.
– Значит, миленький мой, завтра ты переедешь не к Громовой, а в мой собственный дом. Так и знай... Понял?
Нос мистера Кука стал уныло высвистывать, заглушая писк самовара, а в покрытых слезами глазах загорелось упорство, отчаянье. Мистер Кук опять выпил виски, замотал головой и зажмурился. В голове кавардак, мельканье нахальных глаз Гарри и укорчивый зов миссис Нины. Простодушное сердце Ивана сразу почуяло душевную скорбь мистера Кука, Ивану стало жаль барина. «И что она вяжется к нам?»
Меж тем захмелевшая Наденька подсела рядом к пьяному мистеру Куку, обвила его ручкой за талию, поцеловала в висок (а в виске молоточком бил живчик).
– Милый мой, дурачок мой, – ворковала она, выпуская незримые когти, как кошка на мышь. – А жить с тобой станем мы радостно. Я очень веселая, ты веселый. А капиталы у меня есть, на наш век хватит... Ну так как, миленок? А?..
Мистер Кук сидел ледяным истуканом, сжав в прямую линию рот, приводил в порядок чувства и мысли. «Ага, ага... Выход есть. Надо сейчас же отделаться от этой очшень хитренькой рюська коровы».
– Я очшень женат. У меня две дети там, в Америке...
– Врешь, врешь! Я твои документы видела. Ты холостой...
– Факт!.. Но я ни в какой мере не желаю быть отцом чужой деточка. Вам делал большуща амур мистер Парчевский, он докладывал мне свой секрет – так, пожалюста, адресовайтесь к нему. Фи, гадость!
Мистер Кук сморщился и громоносно чихнул.
– Ну, а если б я не была беременна? Тогда женился бы на мне? Ведь любишь?
– О да! Очшень, очшень люблю вас, миссис Наденька. – И мистер Кук сразу двумя кулаками ударил себя в грудь. – Я – джентльмен!.. О, тогда другой разговор. Но вы очшень слишком беременная, чтоб не сказать более...
Тут Наденька, густо покраснев и замурлыкав песенку, быстро встала, зашла за ширму, выбросила из-под платья с живота подушку и вскоре явилась к столу стройная, с перетянутой талией. Вульгарно прихлопнула мистера Кука по крутому плечу и всхохотала, наморщив свой носик. Мистер Кук обомлел, оттопырил трубкой губы, выпучил бессмысленные, как у барана, глаза и, упираясь в пол пятками, в страхе отъехал от Наденьки прочь на аршин вместе с креслом:
– О, о... Феноменально, пора-зи-тель-но, – все больше и больше балдея, бессмысленно тянул он замирающим шепотом. Голова его упала на грудь, моталась, как у дохлого гуся. Но вдруг, будто окаченный ледяною водой, американец мгновенно вскочил, заорал, затопал: – О мой Бог! Аборт?! В моя казенная квартира?! Ифан! Очшень миленький мой! Бегай проворно за мистер судья. Это преступлень, преступлень! Я этого не разрешайт! Мальчишка не мой! Квартир тоже не мой, казенни... О мой Бог, о мой Бог!..
Мистер Кук рычал, как старый дог, и, напирая на гостью, потрясал кулаками. Наденька пятилась к двери, боялась, что заморский верзила ударит ее. Меж тем простодушный Иван, оскорбленный за издевку над барином, выволок из-за ширмы подушку:
– Вот, васкородие, извольте полюбоваться: вот их новорожденное дите, все в пуху, сиськи не просит и не вякает.
Иван во весь рот улыбался, но глаза его – злы.
Мистер Кук, вконец пораженный, посунулся пятками взад, потом вбок, потом – к Наденьке, хлопнул себя по вспотевшему лбу, и только тут к нему возвратилось сознание.
– Вон! – заорал он раскатисто. – Вон!! Иначе дам бокс!..
– Барин! – орал и лакей. – Исправник померши, свидетелев нет. Приурежьте ее со временем по шее, да под зад коленом. Мадам, не извольте охальничать, прошу честь честью.
В глазах Наденьки взъярился звереныш, она сгребла со стола накатанный на палку тугой рулон чертежей и, завизжав, грузно ошарашила по лбу рулоном сначала мистера Кука, а затем и лакея. Мистер Кук покачнулся и мягко сел на пол. Лакей схватился за лоб, двигал ушами, а Наденька, громко рыдая, спешила домой.
На другой день мистер Кук с лакеем Иваном водворились в апартаментах Громовых. Однако нелепые грезы американца-мечтателя, этого Дон Кихота в кавычках, впоследствии оказались напрасными: миссис Нине назначено быть до конца своих дней одинокой. Будь проклята хиромантия, будь проклят Гарри и все прорицатели судеб людских!