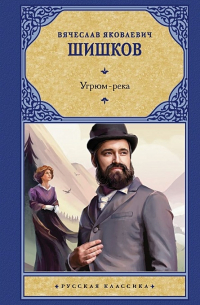Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
XIII
Яков Назарыч, отослав Нину к Громовым, говорил Прохору:
– Вот, сынок, мой будущий зятюшка.. Такие-то дела. Значит, за Нинкой даю тебе двести тысяч... Это в банке, в Москве. Чуешь?
– Маловато... Я думал – больше...
– Тьфу! – И Яков Назарыч, притворившись обиженным, забегал по комнате мелкой, катящейся походкой. На нем неизменный чесучовый пиджак и валенки. – Мало тебе? Черт!..
– По делу – мало... По планам моим.
– Прииск еще... «Надежный» называется... мало?!
– Прииск, ежели к рукам, вещь хорошая.
– Приданое еще – плошки, ложки, серебришко, золотишко, в двадцать пять тысяч не уложишь... Мало, дьявол?
Яков Назарыч подбежал, схватил сидевшего Прохора за ворот и тряс, крича:
– Мало? Нет, говори, мало?! Задушу, черт окаянный!
Прохор захохотал и сказал:
– Полагаю, что довольно... И впрямь – задушите...
Яков Назарыч тоже захохотал, поцеловал Прохора в пробор и, хлопнув по плечу, сказал:
– Ну, теперь убирайся вон... Проваливай, проваливай!.. Сейчас спать лягу... Да Нину гони скорей. Она у вас, наверно...
Прохор, унося в себе большую радость и раскачивая плечами, как Анфиса, направился к выходу.
– А свадьбу в Крайске справим... То есть такой пир на всю поднебесную задам – чертям тошно! – крикнул Яков Назарыч в широкую уплывающую спину.
Желтый, в черной раме вечер. Желтой, холодной полосой заря стояла, и чернела обнаженная земля. Прохор не шел, а плыл по-над землей, и крылья его – из золотых надежд.
Целый час Яков Назарыч ждал Нину. Что за скверная девчонка: ушла и провалилась. В раздраженье он стал умываться, умылся и – нет полотенца на гвозде. Искал, искал – нет! Надо у Нинки пошарить. Он вытащил чемодан дочери и сердито опрокинул его на пол: забренчали, посыпались флакончики, ножницы, пуговки, наперсток. А это что? Яков Назарыч нагнулся и поднял незнакомый шагреневый футляр.
– Ах! – и вбежавшая девушка кинулась к отцу. – Папочка, не смей, не смей, оставь!!
Мокролицый Яков Назарыч невежливо отстранил дочь, открыл футляр и, подслеповато прищурившись, поднес его к своим глазам.
– Откуда?
– Петр Данилыч подарил... – Она, улыбаясь, следила за лицом отца.
– Сними лампу... Сними лампу! – изменившись в лице, крикнул он. – Свети!
Серьги заиграли огнями, заиграли, задергались мускулы его лица – рот перекосился, дрогнул.
– Или я ослеп... – он сделал паузу, передохнул, – или... с ума схожу.
– А что, папочка, а что? – испугалась Нина. – Уж не фальшивые ли?
Отец пыхтел. Скрытый гнев разрывал грудь. И что-то белое и красное промелькнуло перед ним. Он стиснул зубы. Мокрое его лицо сразу обсохло. Он положил футляр в карман, волнуясь, сказал:
– Нет, ничего... Так... – накинул шубу и вышел.
Нина стояла как вкопанная. Она опустила голову, опустила руки, и ее платье в пышных сборках испуганно вытянулось, обвисло. Какое-то давящее предчувствие легло под ее ногами.
В этот желтый, в черной раме вечер Анфиса Петровна, притаившись у плетня, под высокой, голой осокорью караулила Прохора. Вот и вечер почернел, ночь надвинулась, скатным бисером расшито небо, а Прохора все нет. Ишь как засиделся у крали у своей! Эх! Все равно! Анфиса чует, что никуда не упорхнуть из ее, Анфисиных, сетей орленку. Анфисино сердце знает, что ежели все будет окончено – вот уж в церковь повели, венцы надели, – вот тут-то и случится штучка, так, штучка-невеличка – крикнет Анфиса на всю церковь: «Прошенька, сокол милый!» – и упадут венцы.
Нет, на этот раз обмануло Анфису ее обманное, любящее сердце, прокараулила Анфиса Прохора; Прохор порвал колдовскую невидимую цепь, вот он стоит пред отцом и говорит:
– Слава Богу, слава Богу!.. Наконец-то. А я все думал, как бы мой будущий тесть не нажег меня. А теперь, отец, я тебе задам вопросик, уж не гневайся.
– Что за вопросик за такой? – внешне рассеянно, но настороженно спросил Петр Данилыч.
– Сколько ты, отец, имеешь капиталу?
Пред отцом в желтых волнах проплывает образ Анфисы. Говорит отец:
– А тебе какое дело?
Сын смотрит на отца пристально, сердито. Говорит сын:
– Как так? Я работал два с лишним года. Я приобрел тысяч семьдесят серебром. Где деньги?
Желтые волны розовеют, извиваются, Анфиса плывет, заглядывает в лицо отца, ждет ответа. Отец кричит:
– Ты молод еще от отца отчета требовать!.. Сукин ты сын!..
Прохор быстро нагибается над столом, за которым сидит отец, жарко дышит в лоб отца и резко стучит в стол ладонью.
– Деньги!.. Деньги мои где?!
Отец вскакивает, розовые волны в прах, Анфиса исчезает, и вместо нее – Яков Назарыч. Он бледен и весь трясется.
– Петр Данилыч, нам надо объясниться, – говорит он и кивает Прохору на дверь.
Прохор, поводя широкими плечами, взъерошенно и гордо уходит. Петр Данилыч стоит. Яков Назарыч говорит ему:
– Садись. – И плотно прикрывает дверь. Потом и сам садится возле Петра Данилыча, шумно сморкаясь в клетчатый платок; глаза его красны, растерянны. Петр Данилыч ждет. Яков Назарыч вынимает футляр, вынимает серьги, встряхивает их, спрашивает спокойно:
– Откуда взял эти серьги?
Петр несколько секунд смотрит в глаза Якова Назарыча и говорит:
– Купил.
– Врешь, – спокойно отвечает Яков Назарыч, но клетчатый платок в его руках дрожит. – Врешь! – приподымает он голос, приподымает брови и сам приподымается.
Петр Данилыч видит, как гость кособоко, с трудом отдирая ноги, пошел в угол, а в углу – мерещится ему – Анфиса, темная, слившаяся с синими обоями, глаза ее горят. Петр видит: Яков Назарыч повернул обратно, Петр слышит:
– Это серьги моей покойной матери. Да, да...
Петр чувствует, как волосы на его собственных висках зашевелились.
– Да, да, – повторяет Яков Назарыч, он ловит ртом воздух, говорить ему трудно, он хватается рукой за грудь. – Значит, убил моего отца и мою мать твой батька, дед Данило. Выходит, так. У меня и раньше такое подозренье было...
Анфиса качнулась и мгновенно подплыла к Петру.
Петр Данилыч поднялся, крикнул:
– Ты говори, да не заговаривайся!..
– Ах, скажите пожалуйста!.. – подбоченился, с ехидством оскалил рот Яков Назарыч.
– За такие слова бьют в морду!
– Тьфу! – И лицо Якова Назарыча побагровело. – Тьфу!
Длинный письменный стол сам собой тяжело поехал; набекренились, поехали стулья, кресла; затрещал, изогнулся потолок.
– Вот мы куда с доченькой попали: в разбойничье гнездо!
Петр Данилыч стучит кулаком в стол, Петр Данилыч в бешенстве, но вот ноги его ослабели, он повалился в кресло, и кто-то заткнул ему рот тряпкой. И все кружится, ползет, зеркала срываются со стен и пляшут. Призрак Анфисы исчезает.
Шумно вбегает Прохор. И – сразу все на своих местах: стол, стулья, стены, зеркала. Прохор смотрит на отца, на Якова Назарыча. Отец навалился боком на ручку кресла, сжал ладонями голову, глаза закрыты. Яков Назарыч весь в каком-то вывихе: руки изломились, одна вверх, другая вниз; ноги согнулись в коленях, пятка правой ноги гулко стучит в пол, с губ, вместе с криком, летит злобная слюна, в глазах ярость. Прохор впервые увидал: на правом валяном сапоге богача, на пятке – кожаная заплата.
Прохор оторопело подступил к Якову Назарычу:
– Что случилось?
– Разбойничье отродье!.. Прочь!! – завизжал, заплевался, набросился на него с кулаками Яков Назарыч и быстро, не по-стариковски вышел, волоча за рукав шубу.
Стоя возле оголенной осокори, Анфиса Петровна слышала, как близко-близко прошлепали чьи-то заполошные шаги, как пробурчал темный, в зазубринах голос:
– Ах, разбойники!.. Ах, душегубы!
Анфиса не узнала голоса, Анфиса глубоко вздохнула, провела глубоким взглядом по бисеру ночных небес и медленной, задумчивой походкой отправилась домой.
А взбешенный Яков Назарыч, ввалившись в избу, набросился на плачущую дочь:
– Был с тобой изъян или нет? Говори!..
– Какой, папочка, изъян?
– Какой, какой... Черт тебя дери...