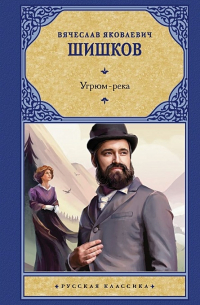Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
XXII
Свои дела инженер Протасов завершил блестяще: обоз в полтораста лошадей завтра двинется с грузом в резиденцию «Громово».
За Протасовым, наверное, была слежка – урядник здесь «с понятием», но и Протасов не дурак: после окончания работ он нарочно громко пригласил всех работавших у него «политиков» для расчета в квартиру Шапошникова. Значит – просто деловые отношения, не более. Невиданной щедростью Андрея Андреевича политики остались весьма довольны. За чаем велись страстные разговоры о положении громовских рабочих. Предлагалась подача рабочими коллективной жалобы в Петербург, мирная забастовка, вооруженное восстание. Юноша с блестящими глазами, Краев, покашливая, воскликнул:
– Возьмите меня, товарищ Протасов, к себе на службу – и на третий же день я берусь организовать не мирную, как предлагаете вы, а политическую забастовку со всеми вытекающими отсюда последствиями.
– Это преждевременно, – сказал Протасов. – У меня имеются кой-какие перспективы. Его жена – прекрасная женщина... Она... Впрочем, об этом тоже преждевременно.
– Простите, пожалуйста, – желчно заскрипел, как коростель, болезненный Краев. – То есть как это – преждевременно?! Растоптать гада никогда не преждевременно...
– Прежде чем решиться на такой шаг, надо взвесить обстоятельства, которых вы, товарищ Краев, не знаете, – отпарировал Протасов наскок юного энтузиаста.
– Вы, Протасов, сдается мне, ведете двойную игру, – продолжал горячиться Краев. – Вы хотите, чтоб и волк был сыт и овцы целы. Абсурд!.. Вы как маленький или как по уши влюбленный ждете какого-то чуда от женщины...
– Краев, замолчи! – в два голоса оборвали юношу.
– Еще неизвестно, кто из нас маленький: я или вы. – И голос Протасова дрогнул в обиде. – Что ж вы от меня, Краев, требуете? Впрочем, вы ничего не имеете права требовать от меня.
– От вас требует народ, а не я!.. – затрясся, как в лихорадке, Краев и закричал, пристукивая сухоньким потным кулачком в острую коленку: – Вы, если угодно, все время, каждую минуту должны взрывать изнутри предприятия мерзавца Громова! Все время разрушать его благосостояние! Вот путь революционера! А вы что? Вы продались патентованному негодяю за большие деньги... (Протасов вздрогнул и весь похолодел.) Простите меня, дорогой товарищ, не обижайтесь... Я очень болен... Я... – И он надолго закашлялся.
Душе Протасова до предела стало неуютно. Запальчивые слова юноши крепко вонзились в его сознание.
– Продался? Спасибо, спасибо, – едва передохнул он.
Все наперебой стали защищать Протасова. Юноша, все еще кашляя, тряс головой, отмахивался руками, страдальчески гримасничал, стараясь улыбнуться оскорбленному им Протасову. Тот прошелся по комнате и, поборов себя, спокойно сказал:
– В данное время и в данном случае всякие радикальные меры по отношению к Громову я считаю нецелесообразными. Что касается линии своего поведения, то я отчет в этом отдам в другом месте.
Возвратясь в свою избу, Андрей Андреевич долго не мог уснуть. Под впечатлением стычки с Краевым в сознании Протасова встал во всю силу трагический вопрос самому себе: революционер, марксист, имеет ли он, в самом деле, право возглавлять крупнейшее дело народного врага и множить его капиталы? Не ложится ли поэтому ответственность за страдания рабочего класса на его собственные плечи?.. И как вывод: быть Протасову с Прохором Громовым или расстаться с ним?
Страшно сказать: «быть», еще страшней ответить: «нет». Вопрос остался без ответа, вопрос повис над его судьбой, как меч.
Разбитый Протасов провалялся до утра в тягостной бессоннице. Пред утром, когда тревожная ночь соскользнула с земли в небытие, Протасову улыбнулись обольстительные глаза Нины: «Андрей, мы еще поработаем с тобой, мы еще потягаемся с Прохором Петровичем».
– Да, да, – засыпая, мотнул Протасов отяжелевшей головой по неугревной, как каторга, подушке.
На следующий день, в двенадцать часов, семьдесят пять возчиков сели под навес за стол. Жирные щи, каша, пироги с рыбой и по стакану водки. Изобретательный Иннокентий Филатыч сиял. Он угощал мужиков как рачительный хозяин. Когда все было съедено, он встал у выхода.
– Сыты ли?
– Сыты, папаша!
– Все ли сыты?
– Все! Благодарим.
Разукрашенный лентами, цветами, кумачом обоз вытянулся в линию. Заиграла музыка. Каждый возчик, утерев усы рукой, подходил к Иннокентию Филатычу, старик трижды целовался с ним, говорил:
– Постарайся, друг!
Обласканные возчики спешили к своим лошадям.
– Трога-а-й!..
Оркестр грянул шибче. Обоз, скрипя колесами, двинулся в поход.
– Счастливо оставаться, папаша! – взмахивали шапками возчики.
Иннокентий Филатыч Груздев закрещивал обоз большим крестом и во все стороны помахивал беленьким платочком. За обозом – продукты, походные кухни и фураж.
– Ну, Кешка, ты, брат, воистину деляга, – сказал приехавший с Груздевым Иван Иваныч Прохоров и, силясь улыбнуться, лишь задвигал черными, с густой сединой, хохлатыми бровями.
Ямщик подал тройку, оба старика сели в тарантас.
– А я пришел к вам, товарищ, попрощаться. Завтра еду, – сказал Протасов.
Шапошников, потряхивая бородой, с жаром тряс руку Протасова и сам весь трясся.
– Что? Знобит?
– Нет, хуже. Нервы... Хотел выпить валерьянки... А вместо того... Эх!.. Давайте выпьем.
Протасов сел. Шапошников был под изрядным хмельком. Все лицо в напряженном смятении, серые глаза возбуждены.
– Прощайте, Протасов, прощайте. Кажется, закручу.
– Напрасно. К чему это?
– Вы никогда не бывали в ссылке, вот и...
– Человек при всяких обстоятельствах должен оставаться человеком.
Шапошников безнадежно отмахнулся рукой, выпил водки, сморщился, сплюнул сквозь зубы, как горький пьяница.
– Теоретически, – сказал он. – А практически – кой-кто из наших или спивался, или убивал себя. Случается и хуже: женятся на дочках торгашей и едут с товарами в тайгу грабить тунгусов.
– Лучше бежать.
– Да, я согласен. Но я устал... Устал, понимаете, жить... И чувствую, что...
– Бросьте, бросьте.
– Пейте, Протасов.
Чокнулись, выпили. Непьющий Протасов проглотил скверную водку с омерзением.
– Слушайте, Шапошников... Подарите мне рукопись прокурора.
– Зачем?
– Надо.
– Вы не сумеете использовать ее.
– Помогут обстоятельства.
Шапошников вздохнул, сморщился, почесал за ухом, сказал: «Возьмите» – и, пошатываясь, подошел к окну. Руки назад, он смотрел через стекла в мрак и ничего не видел. Спина его сутулилась, плечи вздрагивали. Смущенный Протасов стал тихонько насвистывать какой-то мотив.
– Чувствую, что скоро, – раздался от окна надтреснутый голос. – За братом – фють! А страшно... Бездна. Уничтожение сознания.
Протасов молчал. Он не выносил присутствия пьяных, собирался уходить.
Шапошников вдруг круто обернулся, вскинул кулаки и, потеряв равновесие, хлюпнулся задом на скамейку.
– Мерзавец он! Мерзавец... Так ему и скажите... Не сойду с ума, пока не отомщу за брата! А ежели сойду, то и сумасшедший приду к нему! – выкрикивал Шапошников, сильно заикаясь. Потом, как женщина, всхлипнул, ударился затылком в стену и закрыл лицо ладонями. Раздался отрывистый, какой-то лающий плач.
– Я мнимая величина! Я мнимая величина! – отсмаркиваясь, кричал Шапошников. – Я корень квадратный из минус единицы... Презирайте меня, Протасов... Я – не я.
Вдруг в голове Протасова блеснуло дикое предположение: да уж не тот ли это Шапошников, один из героев Анфисина романа? А вся выдуманная история про брата – гиль, бред? Протасов прекрасно знал всю жизнь семейства Громовых в Медведеве из подробнейших рассказов Ильи Сохатых. Что за чертовщина... Не может быть?!
Протасову от мелькнувшей мысли стало не по себе. В голове играл туман от двух рюмок выпитой водки. Он закрыл глаза и старался сосредоточиться. Фу, черт, какая нелепость лезет в голову!..
Протасов внезапно вздрогнул, как от прикосновения холодного железа. Против него – Шапошников. Керосиновая лампа едва мерцала. Лицо Шапошникова растерянно, мокро от слез, жалко. Шапошников через силу улыбнулся и, держа Протасова за руку, шутливо погрозил ему пальцем.
– Я знаю, вы о чем. Ерунда, ха-ха!.. Ерунда! Тот брат сгорел, погиб. Это условно верно, как единица, деленная на нуль, есть бесконечность...
– Условно? – Протасов, робея, глядел в его возбужденные глаза. – Ваш брат заикался, и вы заикаетесь... Это в некотором роде...
– Да, когда пьян или волнуюсь... Наследственно. Дедушка наш алкоголик, отец тоже...
– Вы давно в ссылке?
– Только без экзамена. Я ж говорил вам, что я... Впрочем... Довольно, довольно, милый друг, довольно. – Он вынул из кармана тряпочку и высморкался. – Я... я... я слишком много... страдал. И, поверьте, мне скучно расставаться с вами. Наше село называется – Разбой... Этим все сказано.
Они поцеловались. Волк, звери и зверушки провожали Протасова печальным взглядом.
– Да... – остановился в дверях Протасов. – Дайте мне еще раз взглянуть...
– Что, на Анфису? Нет, нет.
– Почему?
Шапошников, почесывая бока горстями, покачиваясь, залился скрипучим смехом:
– Ре... ревность, понимаете... Ревность.
И вдруг лицо его заледенело.
Обоз двигался прямиком по проложенной Громовым грунтовой дороге. Старики же ехали по старому тракту, чрез деревни, чрез села, где можно сменить лошадей. На второй день путники издали увидели захрясший на аршин в грязи тарантас с поднятыми оглоблями, а в стороне привязанную к дереву, по уши заляпанную грязью лошадь. В тарантасе человек читает газету. Сравнялись.
– Илюша, ты?
– Я, Иннокентий Филатыч... Здравствуйте!
– Давно сидишь?
– С утра. Часика четыре. Ямщик за народом на пристяжке угнал. Влипли крепко. Это называется – тракт, сплошная, я вам скажу, аксиома. А с вами кто?
– Так, человек один, – ответил Груздев.
Иван Иваныч, закутавшийся в воротник драпового архалука, повел на Илью хохлатыми бровями, отвернулся.
– А я на пристань гоню. Телеграмма получена. Мебель стиль-фасон Прохору Петровичу пришла! – прокричал вдогонку путникам Илья Сохатых. – А наш хозяин на соляных варницах гуляет!
– Чего? Гуляет? Ха-ха! Важно.
К деревне Гулькиной путники подъезжали ранним вечером. Соляные варницы Громова были в версте отсюда, меж двух озер. Будни, а с деревни долетает песня, шум. Пьяный мужик лежит поперек дороги. Пьяная старуха плетется возле изгороди, говорит сама с собой. Телята пронеслись, задрав хвосты. У поскотины умирает обожравшийся вином пастух-старик. Пьяными голосами враз поют двадцать петухов. Сивушным духом пышет воздух, голосит гармошка, нескладный хор подхватывает песню, и все звуки покрывает здоровецкий чей-то бас.
– Ферапонт, – сразу догадался, въезжая в хмельную деревеньку, Иннокентий Филатыч. – Дьякон новый, из кузнецов, Прохора Петровича дружок. Стой, ямщик!
На гребне полого спускавшегося к реке зеленого берега большая десятивесельная лодка. На корме совершенно голый Прохор, во всем своем бесстыдстве. Он прокутил всю ночь, он пьян. Шея у него крепкая, плечи с наплывом, но белое тело стало утрачивать былую стройность, под кожей отлагался разгульный жирок благополучия. Какая-то дикая забубенность в жесте, в голосе, во взгляде хмельных оплывших глаз. Окруженный толпой загулявших девок, баб, шумливым полчищем детей, он чувствовал себя в своей тарелке, как Посейдон, окруженный Амфитритами. Ему наплевать на всех. Что такое толпа людей? Она продажна. За пятак, за водку он уведет ее куда угодно, он заставит ее ползать на карачках, прикладываться к его купеческому брюху. И пусть посмеет только пикнуть закабаленная деревня, хозяин хлопнет ладонь в ладонь – и староста с сотским сведет всех мужицких коров и лошадей в уплату долга. Но хозяин сегодня добр и пьян, толпа тоже пьяна, толпа колобродит с хозяином весь день. Эх, горькое, горькое ты счастье!
Прохор стоит на корме дубом, крепко держится за руль.
– Господин атаман! – возглашает стоящий на носу дьякон в красной рубахе, в плисовых шароварах. – А не видать ли чего в волнах?
– Нет, ничего не видно, – рассматривая из-под ладони простор Угрюм-реки, по-серьезному отвечает Прохор и, как капельмейстер, взмахивает рукой.
Визгливый хор мужиков и баб с уханьем, с присвистом рвет воздух:
– Тяни! Тяни! – командуют обалделые, с заплеванными бородами десятский с сотским. С полсотни подгулявших баб и девок, влегая грудью в лямки, прут судно по луговине вниз, к воде. Пять вдребезги пьяных мужиков, падая, разбивая себе зубы, усердно подхватывают лодку сзади.
– Вали веселей, вали!.. – подбадривает Прохор. – Всем по золотому!
Охальные бабы оглядываются на Прохора, толкают одна другую локтем в бок, хохочут. Девкам оглянуться стыдно, уж разве так как-нибудь, из-под руки, сквозь пальцы. А вот как подмывает оглянуться.
Лодка поскрипывает, мужики подергивают, бабы зубоскалят над голым Прохором. А лодка ходом-ходом вниз.
– Чего будешь, хозяин, в воде делать? – кричат бабы.
– С бабами, с девками купаться.
– Ишь ты, лакомый! Водичка шибко холодна.
– Коньячком да наливкой согреем.
– Ишь ты!.. Не ослепни смотри, на голых глядя... Вот ужо хозяйке твоей пожалуемся... Вот ужо, ужо...
– Стоп!! – гаркает дьякон Ферапонт. Все вздрагивают, выпрямляют спины. – Господин атаман! – вопрошает он. – А не видать ли чего в лодочке?
– Нет, ничего не видать. – И Прохор вновь взмахивает рукой, как капельмейстер. Хор визжит:
Только паруса беле... да беле-е-еют!..
Иван Иванович стоит в тарантасе во весь рост, глаза его как под солнцем куски льдин: покапывают слезы.
– Вот это и есть Прохор-то?
Его голос дрожит, бритый рот кривится.
– Да, – отвечает ему Иннокентий Филатыч. – Он самый.
– Тьфу! – болючий летит плевок вслед удаляющейся лодке с Посейдоном. – Погоняй, ямщик!