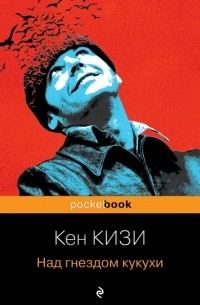Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
5
Ближе к полудню снова пустили туман, но не на полную; не слишком плотный, но мне приходится серьезно напрягаться, чтобы что-то разглядеть. Через день-другой я перестану напрягаться и уйду в себя, затеряюсь в тумане, как другие хроники, но пока меня интересует этот новый – хочу посмотреть, как он будет держаться на групповой терапии.
Без десяти час туман совершенно рассеивается, и черные ребята говорят острым освободить пол для терапии. Все столы из дневной палаты несут по коридору в старую душевую.
– Очистим пол, – говорит Макмёрфи, как будто пришел на танцульки.
Старшая Сестра смотрит на все это из стеклянной будки. Она уже три часа сидит на одном месте, даже на обед не уходила. Дневную палату освобождают от столов, и в час из кабинета в конце коридора выходит врач и идет к нам, кивает Старшей Сестре за стеклом и садится в свое кресло, слева от двери. После него садятся пациенты, потом подтягиваются младшие сестры и практиканты. Когда все сели, Старшая Сестра встает, подходит к задней стене будки и включает автопилот на стальной панели с ручками и кнопками, чтобы машина работала без нее, после чего выходит в дневную палату с журналом учета и плетеным коробом с бумагами. Форма на ней, даже через полдня на рабочем месте, такая накрахмаленная, что нигде ни складочки; когда она садится, справа от двери, форма хрустит, словно замерзшая холстина.
Как только она села, старый Пит Банчини встает, покачиваясь, и заводит свою шарманку, качая головой и ноя:
– Я устал. О-ох, господи. Ох, как я устал…
Он всегда так делает, когда в отделении появляется кто-то новый. Старшая Сестра шелестит бумагами и не смотрит на Пита.
– Кто-нибудь, сядьте рядом с мистером Банчини, – говорит она. – Уймите его, чтобы мы могли начать собрание.
К нему подходит Билли Биббит. Пит смотрит на Макмёрфи и качает головой из стороны в сторону, словно семафор. Он тридцать лет проработал на железной дороге; теперь он совсем вышел из строя, но все равно действует по инерции.
– Уста-а-ал я, – ноет он, жалобно глядя на Макмёрфи.
– Не переживай, Пит, – говорит Билли и кладет ему веснушчатую руку на колено.
– …Ужасно устал…
– Знаю, Пит, – говорит Билли, похлопывая его по костлявому колену.
И Пит отводит лицо от Макмёрфи, поняв, что никто не станет выслушивать его жалобы. Старшая Сестра снимает наручные часы и, взглянув на настенные, подводит их и кладет на короб, чтобы видеть. Затем берет папку.
– Ну, перейдем к собранию?
Она обводит всех взглядом с застывшей улыбкой, убеждаясь, что никто не намерен мешать ей. Никто не смотрит на нее; все изучают свои ногти. Кроме Макмёрфи. Он уселся в кресло в углу, закинув ногу на ногу, и следит за каждым ее движением. Его рыжую шевелюру все так же венчает мотоциклетная кепка. На коленях у него лежит колода карт, и он подснимает ее одной рукой, шелестя на всю палату. Сестра на секунду задерживает на нем насмешливый взгляд. Все утро она следила, как он играл в покер, и, хотя она не видела денег, подозревала, что он не из тех, кто удовольствуется принятым в отделении правилом играть только на спички. Колода снова шелестит и неожиданно исчезает в его лапище.
Сестра снова смотрит на часы, вынимает из папки лист бумаги и, взглянув на него, возвращает в папку. Затем откладывает папку и берет журнал учета. Но тут принимается кашлять Эллис, который стоит у стены; сестра ждет, пока он затихнет.
– Итак. В конце пятничного собрания… мы обсуждали проблему мистера Хардинга… касательно его молодой жены. Он утверждал, что его жена одарена на редкость выдающимся бюстом и что это не дает ему покоя, поскольку она привлекает внимание других мужчин на улице. – Сестра листает журнал и читает в заложенных местах. – Согласно записям в журнале, оставленным разными пациентами, мистер Хардинг говорил, что она «дает до черта поводов пялиться этим ублюдкам». Также слышали, как он говорил, что сам мог давать ей повод искать сексуального внимания на стороне. Вот что он говорил: «Моя милейшая, но безграмотная женушка считает, что любое слово или жест, не брызжущие мужланской брутальностью, это слово или жест хилого дендизма».
Она еще что-то читает молча и закрывает журнал.
– Он также утверждал, что иногда внушительный бюст жены вызывает у него чувство неполноценности. Что ж. Кто-нибудь желает коснуться этого предмета?
Хардинг закрывает глаза, и все молчат. Макмёрфи смотрит, не хочет ли кто высказаться, затем поднимает руку и щелкает пальцами, как школьник в классе; Сестра кивает ему.
– Мистер… э-э… Макмёрри?
– Чего там коснуться?
– Чего? Коснуться…
– Вы вроде спросили: «Кто-нибудь желает коснуться…»
– Коснуться… предмета, мистер Макмёрри, составляющего проблему мистера Хардинга с его женой.
– А. Я думал, вы имели в виду, коснуться ее… кое-чего.
– Так, что бы вы могли…
И она умолкает. Едва ли не сконфузившись. Кое-кто из острых украдкой усмехается, а Макмёрфи потягивается всем телом, зевает и подмигивает Хардингу. Тогда Сестра, само спокойствие, кладет журнал в короб и, взяв другую папку, открывает и читает:
– Макмёрри, Рэндл Патрик. Переведен властями штата из Пендлтонской исправительной сельскохозяйственной колонии. Для постановки диагноза и возможного лечения. Тридцати пяти лет. Женат не был. Крест «За боевые заслуги» в Корее за организацию побега из коммунистического лагеря для военнопленных. Впоследствии уволен с лишением прав и привилегий за нарушение субординации. После чего привлекался к ответственности за драки на улицах и в питейных заведениях, а также за пьянство, рукоприкладство, общественные беспорядки, неоднократное участие в азартных играх и один раз… за изнасилование.
– Изнасилование? – Врач оживляется.
– Как установлено законом, девушки…
– Ну-ну, – говорит Макмёрфи врачу. – Этого они мне не пришили. Девчонка не стала давать показания.
– Девочке пятнадцати лет.
– Сказала, ей семнадцать, док, и очень хотела.
– Судебная медэкспертиза потерпевшей установила проникновение, неоднократное проникновение. В протоколе сказано…
– Так хотела, что я стал уже штаны зашивать.
– Девочка отказалась давать показания, несмотря на результаты экспертизы. Похоже, имело место запугивание. Обвиняемый покинул город вскоре после суда.
– Пришлось, ёлы-палы. Позвольте, скажу вам, док. – Он подается в сторону врача, упершись локтем в колено, и говорит полушепотом: – Эта маленькая бестия меня бы в труху стерла к своим законным шестнадцати. Сама мне ножку подставляла и под меня ложилась.
Сестра закрывает папку и протягивает врачу с таким видом, словно там лежит сам пациент со всеми потрохами.
– Это наш новый, доктор Спайви, – говорит она. – Я думала ознакомить вас с его делом попозже, но поскольку он, похоже, настаивает на участии в групповой терапии, мы можем разделаться с ним прямо сейчас.
Врач выуживает из кармана пиджака пенсне на цепочке и водружает на нос. Пенсне чуть косит вправо, но врач наклоняет голову влево, выравнивая его. Он листает папку с легкой улыбкой, как и все, не оставшись равнодушным к откровенной манере Макмёрфи, но, как и все, сдерживает смех. Пролистав папку до конца, врач закрывает ее и убирает пенсне в карман. Затем переводит взгляд на пациента, который все так же сидит, подавшись к нему с другого края палаты.
– Вы… похоже… не наблюдались ранее у психиатра, мистер Макмёрри?
– Макмёрфи, док.
– Да? Но я думал… сестра говорила…
Он снова открывает папку, выуживает пенсне, всматривается в папку с минуту, снова закрывает, и убирает пенсне.
– Да. Макмёрфи. Это верно. Прошу прощения.
– Да, ничего, док. Это вон та дама начала, по ошибке. Я знавал людей с такой склонностью. У меня был этот, дядя, по фамилии Халлахан, и он как-то раз сошелся с женщиной, делавшей вид, что не может запомнить его фамилию, и называвшей его Хулиганом, чисто подразнить. Так продолжалось не один месяц, пока он ее не проучил. Хорошо так проучил.
– Да? И как же? – спрашивает врач.
Макмёрфи ухмыляется и чешет нос большим пальцем.
– Э-э, ну, этого я сказать не могу. Держу метод дяди Халлахана в строгом секрете – понимаете? На случай, вдруг самому пригодится.
Он говорит это, глядя на Сестру. Она в ответ улыбается ему, и он переводит взгляд на врача.
– Так что вы спрашивали о моей истории болезни, док?
– Да. Я интересовался, наблюдались ли вы ранее у психиатра. Может, как-то обследовались, находились в каких-то учреждениях?
– Ну, если считать тюряги как государственного, так и окружного уровня…
– Психиатрические учреждения.
– А. Нет, если вы об этом. Это моя первая ходка. Но я правда псих, док. Клянусь. Там же… дайте покажу. Вроде бы тот врач на работной ферме… – Он встает, кладет колоду карт в карман куртки, идет через палату к врачу, склоняется у него над плечом и водит пальцем по бумаге в папке у него на коленях: – Вроде бы он написал кое-что, где-то тут, в самом конце…
– Да? Я пропустил. Секундочку.
Врач снова выуживает пенсне, надевает и смотрит, куда указывает Макмёрфи.
– Прямо тут, док. Сестра это выпустила, суммируя мой протокол. Где сказано: «У мистера Макмёрфи отмечаются неоднократные, – просто хочу убедиться, что меня правильно понимают, док, – неоднократные аффективные вспышки, позволяющие предположить диагноз психопатии». Он сказал мне, «психопат» значит, что я слишком дерусь и еб… пардон, дамы… что я, как он выразился, невоздержан в половых связях. Доктор, это правда так серьезно?
Он спрашивает с такой простодушной, почти детской озабоченностью на своем широком, загрубелом лице, что врач поневоле склоняет голову и хихикает себе в воротник, а пенсне у него падает с носа прямехонько в карман. Теперь все острые улыбаются, и даже кое-кто из хроников.
– Я про эту невоздержанность, док. Вас когда-нибудь беспокоили с этим?
Врач промокнул глаза.
– Нет, мистер Макмёрфи, признаюсь, не беспокоили. Однако меня волнует другое – врач с работной фермы приписал вот что: «Не исключаю вероятности, что этот человек симулирует психоз во избежание тягот работной фермы», – он поднял взгляд на Макмёрфи. – Что вы на это скажете, мистер Макмёрфи?
– Доктор. – Он встает в полный рост, морщит лоб и раскидывает руки, душа нараспашку перед всем миром. – Разве похож я на нормального?
Доктор из последних сил сдерживает смех, так что ответить ничего не может. Макмёрфи поворачивается к Старшей Сестре и спрашивает:
– Похож?
Вместо ответа она встает, забирает у доктора папку и кладет себе в короб, на котором лежат ее часы. И садится.
– Пожалуй, доктор, вам следует ознакомить мистера Макмёрри с правилами этих собраний.
– Мэм, – говорит Макмёрфи, – я рассказывал вам о моем дяде Халлахане и одной женщине, коверкавшей его фамилию?
Она долго смотрит на него, без улыбки. Она умеет сделать из своей улыбки любое выражение лица, смотря по тому, кто перед ней, но взгляд у нее всегда одинаковый – расчетливый и механический. Наконец она говорит:
– Прошу прощения, Мак-мёр-фи, – и поворачивается к доктору. – А теперь, доктор, могли бы вы объяснить…
Доктор складывает руки и откидывается на спинку.
– Да. Полагаю, именно это и нужно сделать – объяснить полную теорию нашей терапевтической группы, пока мы здесь. Хотя обычно я оставляю это на потом. Да. Хорошая идея, мисс Рэтчед, отличная идея.
– Конечно, нужна и теория, доктор, но что я имела в виду, так это правило, согласно которому пациенты остаются на своих местах в течение всего собрания.
– Да. Конечно. Тогда я объясню теорию. Мистер Макмёрфи, первым делом следует иметь в виду, что пациенты остаются на своих местах в течение всего собрания. Видите ли, это для нас единственный способ поддерживать порядок.
– Конечно, доктор. Я встал, только чтобы показать вам эти слова в моем формуляре.
Он идет к своему креслу, еще раз хорошенько потягивается и зевает, садится и ерзает, устраиваясь поудобнее. Устроившись, он выжидающе смотрит на врача.
– Что касается теории… – Врач делает глубокий, довольный вдох.
– Ххххуй ей, – говорит Ракли.
Макмёрфи прикрывает рот тыльной стороной ладони и спрашивает Ракли хриплым шепотом:
– Кому?
Тут же Мартини вскидывает голову и таращится куда-то широко раскрытыми глазами.
– Ага, – говорит он, – кому? А. Ей? Ага, я ее вижу. Ага.
– Многое бы дал за такое зрение, – говорит Макмёрфи Мартини.
После этого он до конца собрания сидит молча. Сидит себе и смотрит, ничего не упуская из виду. Доктор излагает свою теорию, пока Старшая Сестра не решает, что уже хватит, и просит его закругляться, чтобы они вернулись к Хардингу, и оставшееся время они обсуждают Хардинга.
Макмёрфи раз-другой подается вперед, словно желая что-то сказать, но передумывает. На лице у него появляется озадаченное выражение. Он понимает, что здесь творится что-то неладное. Только не поймет пока, что именно. Например, почему никто не смеется. Он-то был уверен, что другие засмеются, когда он спросил Ракли «Кому?», но ничего подобного. Стены давят на людей, не до смеха. Что-то неладно в таком месте, где взрослые люди не позволяют себе расслабиться и рассмеяться, что-то неладное в том, как все они покоряются этой улыбчивой мамаше с напудренным лицом, слишком красными губами и слишком большими грудями. И он решает, что подождет и посмотрит, в чем тут дело, перед тем как вступать в игру. Это правило опытного шулера: сперва к игре присмотрись, потом за карты берись.
Я столько раз слышал эту теорию терапевтической группы, что могу пересказать хоть задом наперед – о том, что ты должен научиться быть в группе, прежде чем сможешь функционировать в нормальном обществе; что группа может помочь тебе, показав, что с тобой не так; что общество решает, кто в своем уме, а кто – нет, и ты должен равняться на это. Вся эта бодяга. Каждый раз как в отделении появляется новый пациент, врач грузит нас этой теорией до посинения; это едва ли не единственная возможность для него показать, что он главный и сам ведет собрание. Он говорит, что цель терапевтической группы – установление демократии в отделении, чтобы всё определяли сами пациенты своими голосами, стремясь стать достойными гражданами и вернуться к нормальной жизни. Во внешний мир, на улицу. Любую обиду, любое недовольство, все, что вас не устраивает, говорит он, нужно выносить на групповое обсуждение, а не гноить в себе. Кроме того, вы должны чувствовать себя в группе настолько легко, чтобы открыто обсуждать психологические проблемы перед другими пациентами и персоналом. Общайтесь, говорит он, обсуждайте, признавайтесь. А если услышите в повседневном общении, как друг сказал что-то, запишите это в журнал учета для сведения персонала. Это не то, что в фильмах называют «настучать», это помощь ближнему. Выносите эти грехи на свет, чтобы их омыло общее внимание. И участвуйте в групповых обсуждениях. Помогайте себе и друзьям раскрыть секреты подсознания. Между друзьями не должно быть секретов.
Под конец он обычно говорит, что наше намерение – максимально уподобить эту группу свободному обществу, создать такой внутренний мирок, представляющий уменьшенную модель большого, внешнего мира, в котором однажды мы снова займем свое место.
Может, он бы сказал что-то еще, но на этом Старшая Сестра его обычно затыкает, и тогда как по команде встает старый Пит, качая своей головой, похожей на мятый чайник, и сообщает всем, как он устал, и Сестра говорит, чтобы кто-нибудь заткнул и его и можно было продолжать собрание, и обычно Пита затыкают, и собрание продолжается.
Но один раз, всего раз на моей памяти, года четыре-пять назад, все пошло не так. Врач закончил свое выступление, и Сестра тут же сказала:
– Ну, кто начнет? Выкладывайте ваши старые секреты.
Все острые словно впали в ступор от этих ее слов, и за двадцать минут никто не проронил ни слова, так что она просидела все это время, как заведенный будильник, ожидая чьих-то признаний. Ее взгляд перемещался с одного лица на другое как луч прожектора. Двадцать долгих минут дневную палату сжимали тиски тишины, и все пациенты сидели, не шевелясь. Через двадцать минут Сестра взглянула на свои часы и сказала:
– Следует ли мне считать, что среди вас нет никого, кто совершил бы некий поступок, в котором никогда не признавался? – Она достала из короба журнал учета. – Не обратиться ли нам к анамнезу?
И тут что-то сработало, какое-то акустическое устройство в стенах включилось от сказанных ею слов. Острые напряглись. У всех разом открылись рты. Ищущий взгляд Старшей Сестры остановился на первом человеке у стены.
И он отчеканил:
– Я ограбил кассу в автосервисе.
Сестра перевела взгляд на следующего.
– Я пытался переспать с сестренкой.
Она переключилась на следующего; каждый подскакивал, точно пораженная мишень.
– Я… один раз… хотел переспать с братом.
– Я убил мою кошку в шесть лет. О, боже, прости меня, я забил ее камнем и сказал, это сделал сосед.
– Я солгал, что пытался. Я переспал с сестрой!
– И я тоже! Я тоже!
– И я! И я!
Она о таком и не мечтала. Они все кричали наперебой, забираясь все дальше и дальше, совсем потеряв тормоза, и такое говорили, что потом не смели посмотреть в глаза друг другу. Сестра кивала каждому из них и повторяла:
– Да, да, да.
И вдруг встал старый Пит.
– Я устал! – воскликнул он, да таким сильным и сердитым голосом, какого от него никто не слышал.
Все заткнулись. Он их словно пристыдил. Словно высказал некую правду, нечто истинное и важное, заставив их устыдиться своей детской болтливости. Старшая Сестра ужасно разозлилась. Она метнула на него гневный взгляд, и улыбка стекла у нее по подбородку; ведь все шло лучше некуда.
– Кто-нибудь, займитесь бедным мистером Банчини, – сказала она.
Встали двое-трое. Они попытались успокоить его, хлопая по плечам. Но Пит не собирался успокаиваться.
– Устал! Устал! – твердил он.
В итоге Сестра велела одному черному вывести его из палаты. Она забыла, что черные ребята таким, как Пит, не указ.
Пит всю жизнь был хроником. Несмотря на то что в больницу попал, разменяв шестой десяток, он такой с рождения. У него на голове две большие вмятины, по одной с каждой стороны, – это врач, извлекавший его из материнской утробы, промял ему череп щипцами. Пит, как только выглянул оттуда, увидал родильную палату со всеми прибамбасами, понял, куда его рожают, и уперся всем, чем только мог, решив, что нечего ему тут делать. Тогда врач, недолго думая, взял щипцы для льда, схватил его за голову и вытащил. Но голова у Пита была совсем новенькая, мягкая, как глина, и когда затвердела, вмятины остались. От этого он стал тупым, так что ему приходилось прилагать неимоверные усилия, из кожи вон лезть, чтобы выполнять задания, с которыми шутя справится шестилетний.
Но нет худа без добра – такая тупость сделала его неуязвимым для штучек Комбината. Такого, как он, не оболванишь. В общем, ему дали тупую работу на железной дороге, где все, что от него требовалось, это сидеть в хижине, на дальней стрелке, у черта на рогах, и махать поездам фонарями: красным, если стрелка в одну сторону, зеленым, если в другую, или желтым, если впереди еще один поезд. Так он и делал, прилагая всю свою смекалку, какой никто у него не мог отобрать, один-одинешенек, на этой стрелке. И никто ему не вживлял никаких выключателей.
Так что черным было с ним не сладить. Но тот черный не подумал об этом, как и сестра, когда велела вывести Пита из дневной палаты. Черный подошел к нему и дернул за руку в сторону двери, словно осла за поводья.
– Знач-так, Пит. Пошли в спальну. Шоп не мешал.
Пит сбросил его руку.
– Я устал, – предупредил он.
– Ну жа, старик, ты шумишь. Пошли в кроватку, шоп не шуметь, и будь паинька.
– Устал…
– Я сказал, ты идешь в спальну, старик!
Черный снова дернул его за руку, и Пит перестал качать головой. Он встал прямо и твердо, и глаза у него прояснились. Обычно глаза у Пита полуприкрыты и мутные, словно молоком залиты, но тут стали ясными, как лампы дневного света. И рука, за которую его черный держал, начала разбухать. Персонал и большинство пациентов разговаривали между собой, не обращая внимания на этого старика с его старой шарманкой о том, как он устал, рассчитывая, что его утихомирят, как обычно, и собрание продолжится. Они не видели, как его ладонь сжималась и разжималась, становясь все больше и больше. Только я это видел. Как его разбухшая ладонь, прямо на моих глазах, сжалась в кулак, гладкий и твердый. Большой стальной шар на цепи. Я смотрел на него и ждал, а черный снова дернул Пита за руку в сторону двери.
– Я сказал, старик, тебе надо…
Он увидел руку. И попытался отойти, сказав: «Хороший мальчик, Питер», – но чуть не успел. Железный шар взвился от самого колена. Черный отлетел к стене и съехал на пол, как по маслу. Я услышал, как в стене полопались трубы, и штукатурка потрескалась прямо по форме тела.
Двое других – мелкий и большой – остолбенели. Сестра щелкнула пальцами, и они зашевелились. Одно мгновение, и они уже встали в стойку. Мелкий позади большого, точно уменьшенная копия. В двух шагах от Пита их осенило, в отличие от первого черного, что Пит не заточен под систему, как все мы, а потому не станет делать что-то только потому, что ему велят или дернут за руку. Если они собрались его взять, им придется брать его, как дикого медведя или буйвола, а когда один из них в отключке, им вдвоем придется нелегко.
Они одновременно подумали об этом и замерли, большой и его мини-копия, в той же самой позе: левая нога вперед, правая рука отставлена, на полпути между Питом и Старшей Сестрой. Впереди раскачивается железный шар, позади стоит белоснежная фурия. Черных закоротило, они задымились, и я услышал, как заскрипели их шестеренки. Они затряслись от беспомощности, словно машины, которым дали полный газ, не отпустив тормоза.
Пит стоял, как на арене, покачивая свой шар, весь накренившись от его веса. Все теперь смотрели на него. Он перевел взгляд с большого черного на мелкого и, поняв, что они не собираются приближаться, повернулся к пациентам.
– Поймите вы… это полная херня, – сказал он нам, – это все полная херня.
Старшая Сестра соскользнула с кресла и стала красться к своей плетеной сумке, стоявшей у двери.
– Да, да, мистер Банчини, – блеяла она, – только успокойтесь…
– Больше ничего, просто полная херня. – Голос его утратил прежнюю силу, стал сдавленным и торопливым, словно время его было на исходе. – Поймите, я-то другим не буду, не могу – разве не видите? Я родился мертвым. Не как вы. Вы родились не мертвыми. А-а-ай, как же тяжко…
Он заплакал. У него не получалось выговаривать слова; он открывал рот, силясь что-то сказать, и не мог. Он потряс головой, проясняя мысли, и заморгал на острых:
– А-а-ай, я… вам… говорю… говорю вам.
И снова стал крениться, а кулак его опять превратился в железный шар. Он воздел его перед собой, словно предлагая нам всем некий дар.
– Я другим не буду. Родился недоношенный. Меня столько обижали, что я умер. Я родился мертвым. И другим не буду. Я устал. Сдался пытаться. А вы можете. Меня столько обижали, что родился мертвым. А вам легче. Я родился мертвым, и жизнь меня била. Я устал. Устал говорить и стоять. Я пейсят пять лет уже мертвый.
Старшая Сестра уколола его сзади прямо сквозь штаны. И отскочила, не вытащив шприца, торчавшего из зеленых штанов, как механический хвостик, а старый Пит кренился все дальше – не от укола, а от усилий; эта пара минут совершенно выжала его, раз и навсегда – одного взгляда было достаточно, чтобы понять: с ним все кончено.
Так что колоть его было ни к чему; голова у него снова закачалась, а глаза помутнели. Когда Сестра приблизилась к нему сзади и вытащила шприц, он уже до того накренился, что слезы капали прямо на пол, разлетаясь во все стороны от его качавшейся головы, равномерно забрызгивая пол дневной палаты, словно он сеял семена.
– А-а-а-ай, – сказал он.
Сестра вытащила шприц, но он не шелохнулся. Он вернулся к жизни на какую-нибудь минуту, чтобы сказать нам что-то, но нам было не до того, не хотелось думать, а его это истощило. Тот укол был лишним, все равно что мертвого колоть – ни сердца, чтобы качать кровь, ни вен, чтобы нести яд к голове, ни мозга, чтобы одурманивать его. С таким же успехом Сестра могла колоть высохший труп.
– Я… устал…
– Что ж, ребята, – сказала она санитарам. – Думаю, если вы наберетесь храбрости, мистер Банчини пойдет спать, как послушный человек.
– …Ужа-а-асно устал.
– А санитар Уильямс приходит в себя, доктор Спайви. Позаботьтесь о нем, хорошо? Вот. У него часы разбиты и рука порезана.
Больше Пит ничего такого не выкидывал, и уже не выкинет. Теперь, когда он начинает чудить во время собрания и его затыкают, он всегда затыкается. Он все еще иногда встает, качая головой, и докладывает нам, как он устал, но это не жалоба, не оправдание и не предупреждение – с этим покончено; он словно старые ходики, давно вышедшие из строя, но все еще идущие, без цифр на циферблате, с гнутыми стрелками и нерабочим будильником, – старые, никчемные ходики, которые тикают и иногда выпускают кукушку.
В два часа, когда пора заканчивать собрание, группа вовсю дрючит бедного Хардинга.
Врач начинает ерзать на своем кресле. Ему неуютно на этих собраниях, если он не разглагольствует о своей теории; он бы лучше провел это время у себя в кабинете, чертя графики. Устав ерзать, он кряхтит, и Сестра смотрит на свои часы и говорит нам, что мы можем нести столы обратно, а завтра в час продолжим обсуждение. Острые выходят из оцепенения и бросают украдкой взгляды на Хардинга. Лица у них горят со стыда, словно они только что поняли, что их опять развели. Кто-то идет по коридору в старую душевую, за столами, кто-то подходит к журнальным стойкам и с увлеченным видом листает старые номера «Макколла», но так или иначе все избегают Хардинга. Их снова одурачили, заставив распекать одного из своих друзей, словно он преступник, а они судьи, прокуроры и присяжные. Сорок пять минут они его дрючили почем зря, словно получали удовольствие, забрасывая его вопросами: что с ним, как он считает, не так, если он не может удовлетворить свою благоверную; почему он уверен, что у нее никогда ничего не было с другим мужчиной; как он рассчитывает вылечиться, если не будет отвечать честно? – вопросы и намеки, от которых им теперь не по себе, и им хочется оказаться как можно дальше от Хардинга.
Макмёрфи наблюдает за всем этим. Вставать не спешит. Он снова озадачен. Сидит в кресле и смотрит на острых, поглаживая колодой карт рыжую щетину у себя на подбородке, затем наконец встает, зевает, потягивается и, почесав живот уголком колоды, убирает ее в карман и подходит к Хардингу, одиноко потеющему на стуле.
Макмёрфи с минуту смотрит на Хардинга, затем берет своей лапищей соседний стул за спинку, поворачивает задом наперед и садится верхом, словно на пони. Хардинг весь в себе. Макмёрфи хлопает себя по карману, ища сигареты, находит, берет одну и закуривает; держит перед собой и хмурится на кончик, слюнявит большой и указательный пальцы и подравнивает огонек.
Все как будто не замечают друг друга. Не уверен даже, заметил ли Хардинг Макмёрфи. Он почти весь завернулся в свои худые плечи, как в зеленые крылья, спрятав руки между коленями, и сидит на краешке стула, прямой как жердь. Уставился в пустоту и тихонько что-то напевает, стараясь казаться спокойным, а сам жует щеки, весь на нервах, отчего кажется, будто череп усмехается.
Макмёрфи сует сигарету в рот, складывает руки на спинке стула и опускает на них подбородок, щурясь одним глазом от дыма. Другим глазом он смотрит какое-то время на Хардинга, а затем начинает говорить, с сигаретой, пляшущей во рту:
– Что ж, браток, так эти ваши собраньица обычно проходят?
– Проходят?
Хардинг перестал напевать и жевать щеки, но все так же смотрит перед собой, мимо Макмёрфи.
– Такая у вас процедура для этой групповой терапии? Как в куриной стае, почуявшей кровь?
Хардинг встряхивает головой, и его взгляд фокусируется на Макмёрфи, словно он только сейчас заметил, что рядом с ним кто-то сидит. Он кусает себе щеки, и лицо у него проминается посередине, словно бы он ухмылялся. Он разворачивает плечи и откидывается на спинку, пытаясь казаться спокойным.
– Почуявшей кровь? Боюсь, ваш чудной заштатный говор мне неясен, друг мой. Не имею ни малейшего понятия, о чем это вы.
– Ну что ж, тогда я объясню. – Макмёрфи повышает голос; он не смотрит на других острых, но говорит для них, и они его слушают. – Стая замечает пятнышко крови на одной курице и давай ее клевать, понял? Пока совсем не заклюют, до кровавого месива. Но в процессе обычно кровь попадает еще на курицу-другую, и тогда принимаются за них. И снова на кого-то попадает кровь, и их тоже клюют до смерти, и еще, и еще. Да, браток, куриное побоище может прикончить всю стаю за пару часов. Я такое видел. Кошмарное зрелище. Единственный способ прекратить это – с курами – надеть им наглазники. Чтобы не видели.
Хардинг сплетает длинные пальцы на колене и подтягивает его к себе, откинувшись на спинку.
– Куриное побоище. Ничего не скажешь, приятная аналогия, друг мой.
– И именно это мне напомнило ваше собрание, на котором я сидел, браток, если хочешь знать грязную правду. Вы напомнили мне стаю грязных кур.
– Значит, по-вашему, друг, я курица с пятнышком крови?
– Именно так, браток.
Они все еще ухмыляются друг другу, но голоса их стали такими тихими и напряженными, что мне приходится подойти к ним поближе со шваброй, чтобы расслышать. Другие острые тоже придвинулись поближе.
– А хочешь, еще кое-что скажу, браток? Хочешь знать, кто первым начал тебя клевать? – Хардинг ждет, что он скажет. – Да эта старая сестра, вот кто.
В тишине раздается боязливый гомон. Мне слышно, как машины в стенах замерли и загудели дальше. Хардинг отчаянно старается казаться спокойным и не махать руками.
– Значит, – говорит он, – все вот так просто, до полного идиотизма. Вы у нас в отделении шесть часов и уже упростили всю работу Фрейда, Юнга и Максвелла Джонса, сведя ее к одной аналогии – куриному побоищу.
– Я не говорю о Фреде Юнге и Максвелле Джонсе, браток. Я только говорю об этом паршивом собрании и о том, как эта сестра с остальными засранцами обращались с тобой. Наклали тебе по полной.
– Наклали? Мне?
– Именно так, наклали. От души наклали. И в хвост и в гриву. Ты, наверно, умудрился нажить себе здесь врагов, браток, потому что выглядело это так, словно ты им враг.
– Ну, это просто поразительно. Вы совершенно ничего не поняли, совершенно проглядели и не поняли, что все это было для моей же пользы. Что любой вопрос или тема, поднимаемые мисс Рэтчед или кем-нибудь из персонала, служат единственно терапевтическим целям. Вы, наверно, ни слова не слышали из теории доктора Спайви о терапевтической группе, или у вас не хватило образования или ума, чтобы понять это. Я разочарован в вас, друг мой, ох как разочарован. А я-то думал, вы умнее, исходя из нашего утреннего общения, – может, безграмотны, этакий заштатный фанфарон с паханскими замашками, однако не лишены ума. Но при всей моей обычной наблюдательности и проницательности и мне случается ошибаться.
– Да ну тебя к черту, браток.
– Ах да, забыл добавить, что я также отметил утром вашу примитивную брутальность. Психопат с явными садистскими наклонностями, возможно, движимый безосновательной эгоманией. Да. Как видите, эти природные таланты определенно делают вас компетентным терапевтом и позволяют взвешенно критиковать собрания мисс Рэтчед, невзирая на то обстоятельство, что она весьма авторитетная медсестра психиатрического профиля с двадцатилетним опытом работы. Да, с вашими талантами, друг мой, вы можете творить чудеса с подсознанием, утешать болящее Оно и исцелять поломанное Сверх-Я. Вы, наверно, могли бы добиться выздоровления всего отделения, овощей и прочих, за каких-нибудь полгода, леди и джентльмены, или мы вернем вам деньги.
Но Макмёрфи, вместо того чтобы спорить с Хардингом, просто смотрит на него, а потом спрашивает ровным голосом:
– А ты, значит, думаешь, что эта хренотень, которой вы сейчас занимались, приносит кому-то выздоровление, какую-то пользу?
– А зачем бы еще мы следовали этой процедуре, друг мой? Персонал жаждет нашего выздоровления не меньше нас самих. Они не чудовища. Пусть мисс Рэтчед строгая дама не первой молодости, но она не какая-то чудовищная великанша из секты птицеводов, садистски обожающая выклевывать нам глаза. Вы ведь не думаете так о ней?
– Нет, браток. Она вам не глаза выклевывает. А кое-что другое.
Хардинг вздрагивает, и я вижу, как его руки начинают выбираться из межножья, словно белые пауки из-под замшелых корневищ, и ползут вверх по стволу.
– Не глаза? – говорит он. – Бога ради, куда же тогда мисс Рэтчед клюет нас, мой друг?
Макмёрфи усмехается.
– Что, неужели не ясно, браток?
– Нет, конечно, неясно! То есть, если вы наста…
– Да в яйца, браток, в ваши драгоценные яички.
Пауки доползли до ствола, остановились и заплясали. Хардинг тоже пытается усмехнуться, но лицо и губы у него так побелели, что все без толку. Он уставился на Макмёрфи. Макмёрфи вынимает изо рта сигарету и повторяет сказанное:
– В самые яйца. Нет, эта сестра не какая-то страшная курица, браток, она – яйцерезка, не иначе. Видал я таких без числа, старых и молодых, мужиков и баб. Видал по всей стране, в любых домах – таких, кто пытается ослабить тебя, чтобы ты у них ходил по струнке, играл по их правилам, жил как они хотят. А самый верный способ этого добиться, заставить тебя подчиниться – это ослабить тебя, ударив туда, где больнее всего. Тебя когда-нибудь били коленом по яйцам, браток? Сразу отрубаешься, а? Ничего нет хуже. Тебя мутит, вся сила, какая в тебе есть, уходит. Если ты схватился с кем-то, кто хочет выиграть за счет твоей слабости, а не своей силы, следи за его коленом – он будет целить тебе именно туда. И эта старая стервятница делает то же самое – целит вам именно туда.
В лице у Хардинга все еще ни кровинки, но руками он овладел и всплескивает ими перед собой, пытаясь отмахнуться от того, что сказал Макмёрфи:
– Наша дорогая мисс Рэтчед? Наша милая, улыбчивая матерь Рэтчед, нежный ангел милосердия – яйцерезка? Ну, друг мой, это совершенно немыслимо.
– Не надо, браток, мне пудрить мозги про добрую мамочку. Может, она и мать, но здоровая, как ангар, и твердая, как вороненая сталь. Ей удалось меня одурачить этим прикидом старой доброй мамочки, может, минуты на три, когда я только пришел утром, но не дольше. И я не думаю, что хоть кого-то из вас, парни, она водила за нос полгода или год. Ё-о-ксель, повидал я сук на своем веку, но она всех уделает.
– Сука? Но секунду назад она была яйцерезкой, потом стервятницей… Или курицей? Вы запутались в метафорах, друг мой.
– Да черт с ними; она сука, и стервятница, и яйцерезка, и не прикидывайся – ты понимаешь, о чем я.
Лицо и руки Хардинга теперь мельтешат как никогда – просто ускоренная киносъемка из жестов, усмешек, гримас, ухмылок. Чем больше он пытается совладать с собой, тем быстрее разгоняется. Когда он дает волю рукам и лицу двигаться как им хочется, не пытаясь сдерживать, они так текут и шевелятся, что даже приятно смотреть, но когда он нервничает из-за них и пытается сдерживать, он становится буйной, дергающейся, лихорадочно пляшущей марионеткой. Весь он сплошное мельтешение, и речь его ускоряется до предела.
– Да ну что вы, друг мой Макмёрфи, собрат по психозу, наша мисс Рэтчед – сущий ангел милосердия, и всем это известно. Она бескорыстна как ветер, трудится на благо всех, не видя благодарности, день за днем, пять долгих дней в неделю. Какое сердце, друг мой, какое сердце. К тому же мне известно из надежных источников – я не волен разглашать их, но могу сказать, что Мартини держит связь с теми же людьми, – что она и в выходные не прекращает служение человечеству, внося щедрый вклад в местную благотворительность. Готовит богатый набор даров – консервы, сыр для вяжущего действия, мыло – и преподносит какой-нибудь бедной молодой паре, переживающей финансовые трудности. – Руки у него мелькают, вылепляя из воздуха эту картину. – Ах, гляньте: вот она, наша сестра. Легкий стук в дверь. Корзина с лентой. Молодая пара от радости лишается дара речи. Муж разинул рот, жена не прячет слез. Она хвалит их хозяйство. Обещает прислать денег на… чистящий порошок, да. Ставит корзину посреди пола. А когда наш ангел уходит – воздушные поцелуи, неземные улыбки, – она до того переполнена сладким млеком добродетели, скопившимся в ее большой груди, что источает великодушие. Источает, слышите? Задержится у двери, отведет в сторонку робкую невесту и вручит ей двадцать долларов: «Иди, бедное, несчастное, голодное дитя, иди купи себе приличное платье. Я понимаю, твой муж не может раскошелиться, но вот, возьми и иди». И эта пара навеки в неоплатном долгу перед ней.
Он говорит все быстрей и быстрей, и на шее у него вздуваются вены. Когда он замолкает, в отделении повисает тишина. Я не слышу ничего, кроме слабого шипения, и догадываюсь, что это скрытый магнитофон пишет наши разговоры.
Хардинг осматривается, видит, что все смотрят на него, и старается, как может, рассмеяться. Он исторгает такой звук, словно гвоздь вытаскивают из зеленой сосны:
– И-и-и-и-и-и-и-и-и.
Ничего не может поделать. Он сучит руками, точно муха лапками, и зажмуривается от своего ужасного смеха. Но поделать ничего не может. Этот визг становится все выше и выше, и наконец Хардинг втягивает воздух и прячет лицо в ладони.
– Ах, она сука, сука, сука, – шепчет он сквозь зубы.
Макмёрфи закуривает еще одну сигарету и предлагает ему; Хардинг берет ее без слов. Макмёрфи продолжает смотреть на него с каким-то ошарашенным видом, словно никогда до этого не видел человеческого лица. Он смотрит, как ерзанье и дерганье Хардинга замедляется и из ладоней появляется лицо.
– Вы правы, – говорит Хардинг, – во всем правы. – Он поднимает взгляд на других пациентов, смотрящих на него. – Никто еще не смел взять и сказать это, но нет среди нас человека, какой бы не думал этого, не чувствовал бы к ней и ко всей этой лавочке того же, что и вы, – где-то в самой глубине своей маленькой напуганной души.
Макмёрфи хмурится и спрашивает:
– А что с этим докторишкой? Может, он и тугодум, но не настолько, чтобы не видеть, как она тут верховодит и что делает.
Хардинг делает долгую затяжку, и пока он говорит, изо рта у него выходит дым.
– Доктор Спайви… точно такой же, как и все мы, Макмёрфи, совершенно сознает свою неадекватность. Он – напуганный, отчаявшийся, никчемный кролик, совершенно неспособный управлять этим отделением без помощи нашей мисс Рэтчед, и он это знает. И, что еще хуже, она знает, что он это знает, и напоминает ему при каждом случае. Каждый раз, как она выясняет, что он допустил какую-то оплошность в учете или, скажем, в графиках, можете не сомневаться, что она тычет его носом.
– Так и есть, – говорит Чезвик, встав рядом с Макмёрфи, – тычет нас носами в наши ошибки.
– Почему он ее не уволит?
– В этой больнице, – говорит Хардинг, – у врача нет власти нанимать и увольнять. Такая власть есть у инспектора, а инспектор – женщина, старая подруга мисс Рэтчед; в тридцатые они вместе служили сестрами в армии. Мы здесь – жертвы матриархата, друг мой, и врач против этого так же беспомощен, как и мы. Он понимает, что все, что требуется Рэтчед, это снять трубку со своего телефона, позвонить инспекторше и обмолвиться, ну, скажем, что врач, похоже, многовато заказывает демерола…
– Постой, Хардинг, я не секу в этой химии.
– Демерол, друг мой, это синтетический опиат, вызывающий зависимость вдвое сильнее героиновой. Врачи нередко на него подсаживаются.
– Этот шибздик? Наркоман?
– Чего не знаю, того не знаю.
– Тогда чего она добьется своим обвинением…
– А, вы невнимательны, друг мой. Обвинять ей не нужно. Всего лишь намекать, на что угодно, разве не заметили? Сегодня не заметили? Подзовет человека к двери сестринского поста, стоит там и спрашивает о салфетке, найденной у него под кроватью. Ничего такого, просто спрашивает. А он, что ни ответит ей, чувствует себя вруном. Если скажет, чистил ручку, она скажет: «Значит, ручку», а если скажет, это насморк, она скажет: «Значит, насморк» – и кивнет своей седой фризурой, и улыбнется своей улыбочкой, и вернется обратно к себе, а человек будет стоять и думать, зачем же ему понадобилась эта салфетка.
Он снова начинает дрожать и незаметно для себя заворачиваться в плечи.
– Нет. Обвинять ей не нужно. Она гений намеков. Вы разве слышали на сегодняшнем собрании, чтобы она хоть в чем-то обвинила меня? А кажется, в чем только меня не обвинили: в ревности и паранойе, в том, что я не мужчина, раз не могу удовлетворить жену, в связях с мужчинами, в том, что я как-то не так держу сигарету, и даже, как мне показалось, будто у меня ничего нет между ног, кроме кустика волос – этаких мягких, пушистых, белокурых! Яйцерезка? О, вы ее недооцениваете!
Хардинг внезапно смолкает, подается вперед и берет Макмёрфи за руку двумя руками. Лицо у него странно перекошено, черты заострились и пошли буро-лиловыми пятнами – не лицо, а битая бутылка вина.
– Этот мир… во власти сильных, друг мой! Таков ритуал нашего бытия, что сильные становятся сильнее, пожирая слабых. Мы должны признать это. Такова правда жизни, вот и все. Мы должны научиться принимать это как закон природы. Кролики принимают свою роль в этом ритуале и признают за волком силу. А для защиты кролик становится хитрым, и пугливым, и изворотливым, и роет норы, чтобы прятаться, когда волк рядом. И этим спасается, и выживает. Он знает свое место. И уж конечно, не бросает волку вызов. Разве мудро это было бы? Ну?
Он выпускает руку Макмёрфи, откидывается, закинув ногу на ногу, и делает еще одну долгую затяжку. Затем улыбается своей треснутой улыбкой, вынимает сигарету и давай опять смеяться:
– И-и-и-и-и-и-и-и-и, – словно гвоздь вытаскивают из доски. – Мистер Макмёрфи… друг мой… я не курица, я кролик. И врач кролик. И Чезвик вот кролик. И Билли Биббит. Все мы здесь кролики, разных лет и степени, прыг-скачущие по нашему диснеевскому миру. Только не поймите превратно: мы здесь не потому, что мы кролики – мы везде были бы кроликами, – мы все здесь потому, что не можем приспособиться к нашей кроличьей жизни. Нам нужен хороший сильный волк или волчиха, как медсестра, чтобы мы знали свое место.
– Мужик, ты в дурь попер. Хочешь мне сказать, что собираешься сидеть и слушать какую-то кошелку с синими волосами, утверждающую, что ты кролик?
– Не утверждающую, нет. Я родился кроликом. Только глянь на меня. Мне просто нужна медсестра, чтобы быть счастливым кроликом.
– Никакой ты, на хрен, не кролик!
– Видишь уши? Непоседливый носик? Хвостик пимпочкой?
– Ты говоришь, как ненор…
– Как ненормальный? Очень проницательно.
– Блин, Хардинг, я не это имел в виду. Не в этом смысле ненормальный. Я в смысле… черт, я удивился, насколько вы все, парни, разумны. Как по мне, так вы ничуть не ненормальней, чем средний засранец на улице…
– Ну-ну, засранец на улице.
– Но не как, знаете, в кино показывают ненормальных. Вы просто замороченные и… вроде…
– Вроде кроликов, так ведь?
– К черту кроликов! Ничего похожего на кроликов, ёлы-палы!
– Мистер Биббит, попрыгайте тут ради мистера Макмёрфи. Мистер Чезвик, покажите ему, какой вы пушистый.
Билли Биббит и Чезвик прямо на моих глазах обратились в согбенных белых кроликов, но слишком оробели, чтобы исполнить просьбу Хардинга.
– Ой, они стесняются, Макмёрфи. Правда, мило? Или, может, ребятам не по себе, потому что не вступились за друга. Возможно, они чувствуют вину за то, что снова позволили ей сделать себя ее допросчиками. Не унывайте, друзья, вам нечего стыдиться. Все как должно быть. Не годится кролику вступаться за собрата. Это было бы глупо. А вы поступили мудро – трусливо, но мудро.
– Послушай, Хардинг, – говорит Чезвик.
– Нет-нет, Чезвик. Не надо сердиться на правду.
– Знаешь чего; было время, когда я говорил о старушке Рэтчед то же самое, что и Макмёрфи.
– Да, но ты говорил это очень тихо, а потом и вовсе взял свои слова назад. Ты тоже кролик, не пытайся отрицать правду. Поэтому я на тебя и не в обиде за те вопросы, что ты мне задавал сегодня на собрании. Ты просто играл свою роль. Если бы на ковер вызвали тебя, или тебя, Билли, или тебя, Фредриксон, я бы нападал на вас не менее жестоко. Мы не должны стыдиться своего поведения; нам, мелким зверушкам, положено так вести себя.
Макмёрфи поворачивается, сидя верхом на стуле, и оглядывает остальных острых.
– А я не уверен, что им нечего стыдиться. Лично я подумал, это чертовски подло, как они переметнулись на ее сторону против тебя. Показалось даже, что я снова в красном китайском лагере…
– Боже правый, Макмёрфи, – говорит Чезвик, – ты вот послушай.
Макмёрфи поворачивается к нему, готовый слушать, но Чезвик сдулся. Чезвик всегда сдувается; он из тех, что поднимут много шуму, словно готовы вести в атаку, покричат, потопают с минуту, сделают шаг-другой – и в кусты. Макмёрфи смотрит на него, впавшего в ступор после такого многообещающего зачина, и говорит ему:
– Как есть, блин, китайский лагерь.
Хардинг воздевает руки, призывая к миру.
– Ой, нет-нет, не надо так. Вы не должны нас осуждать, друг мой. Нет. Между прочим…
Я вижу, как в глазах Хардинга снова разгорается лукавый огонек; думаю, сейчас опять начнет смеяться, но он вынимает изо рта сигарету и указывает ею на Макмёрфи – у него в руке сигарета кажется еще одним пальцем, таким же тонким и белым, только дымящимся.
– …Вы тоже, мистер Макмёрфи, при всей вашей ковбойской браваде и карнавальном кураже вы тоже, под этим заскорузлым панцирем, наверняка такой же мягкий и пушистый, с кроличьей душой, как и мы.
– Ага, еще бы. Типичный американский кролик. И что же во мне такого кроличьего, а, Хардинг? Мои психопатические наклонности? Или склонность драться? А может, ебаться? Наверно, все же ебаться. Мои амуры. Ну да, они, наверно, и делают меня кроликом…
– Подождите; боюсь, вы затронули вопрос, требующий некоторого рассмотрения. Кролики известны этой чертой, не так ли? Даже печально известны. Да. Хм. Но в любом случае вопрос, затронутый вами, лишь указывает, что вы здоровый, полноценный, адекватный кролик, тогда как большинство из нас не может этим похвастаться. Никчемные создания, вот мы кто – чахлые, пришибленные, слабые особи слабого народца. Кролики без амуров; жалкая картина.
– Подожди-ка; ты переиначил мои слова…
– Нет. Вы были правы. Помните, это ведь вы обратили наше внимание на то место, куда нас клюет сестра? Это правда. Среди нас нет никого, кто бы не боялся потерять – если еще не потерял – свою мужскую силу. Мы смешные зверьки, которые не могут быть самцами даже в кроличьем мире, – вот насколько мы слабы и неполноценны. Х-и-и. Нас можно назвать кроликами кроличьего мира!
Хардинг снова подается вперед и начинает смеяться этим своим натянутым, писклявым смехом, оправдывая мои ожидания; руки его порхают, лицо дергается.
– Хардинг! Захлопни варежку!
Это как пощечина. Хардинг умолкает, на лице застывает усмешка, руки виснут в сизом облаке табачного дыма. Он замирает на секунду; затем щурит глаза в лукавые щелки и, вскинув взгляд на Макмёрфи, говорит так тихо, что мне приходится подойти к нему сзади со шваброй, чтобы расслышать.
– Друг… ты… может, волк?
– Никакой я не волк, ёлы-палы, и ты не кролик. Ёксель, никогда еще не слышал такой…
– Рык у тебя самый волчий.
Макмёрфи шумно выдыхает, вытянув губы трубочкой, и поворачивается от Хардинга к остальным острым, обступившим их.
– Вот что; всех касается. Какого хрена с вами творится? Вы не настолько спятили, чтобы считать себя какими-то зверушками.
– Нет, – говорит Чезвик и подходит к Макмёрфи. – Нет, ей-богу. Я никакой не кролик.
– Молодец, Чезвик. И остальные, ну-ка бросьте это. Тоже мне, приучились драпать от пятидесятилетней тетки. Да что она такого может с вами сделать?
– Да, что? – говорит Чезвик и злобно зыркает на всех.
– Высечь она вас не может. Каленым железом прижечь не может. На дыбу вздернуть не может. Теперь у них законы против этого; сейчас не Средние века. Ничего она не сделает такого…
– Ты в-в-видел, что она м-может с нами с-с-сделать! На сегодняшнем собрании.
Я вижу, Билли Биббит снова сделался из кролика человеком. Он наклоняется к Макмёрфи, пытаясь договорить свою мысль, на губах у него пена, а лицо красное. Затем разворачивается и уходит, бросив напоследок:
– А, б-б-без толку. Я лучше п-п-покончу с собой.
Макмёрфи окликает его:
– На собрании? А что такого было на собрании? Все, что я видел, это как она задала вам пару вопросов, и совсем не страшных – охренеть. Вопросами кости не переломаешь – это не дубинки и не камни.
Билли оборачивается.
– Но к-к-как он-на их задает…
– Вы же можете не отвечать, а?
– Если не от-тветишь, она просто улыбнется и сд-сд-сделает заметку у себя в бл-бл-блокноте, а потом она… она… ой, блин!
К Билли подходит Скэнлон.
– Не ответишь ей на вопрос, Мак, так самим молчанием признаешь за ней правоту. Вот так эти гады в правительстве и добиваются своего. С ними не сладишь. Единственное, что можно – это взорвать всю их шайку-лейку к чертям собачьим, чтобы следа не осталось.
– Ну, задаст она вам свой вопрос, а вы что – послать ее к черту не можете?
– Да, – говорит Чезвик, потрясая кулаком, – послать ее к черту.
– Ну а дальше что, Мак? Она тут же спросит: «И чем же, пязьвольте узнять, вас так огорчил этот вопрос, пациент Макмёрфи?»
– Так снова пошли ее к черту. Всех их пошлите. Они же бить вас не будут.
Острые сгрудились вокруг него. На этот раз ответил Фредриксон:
– Окей, скажешь ей такое, и тебя запишут в потенциально буйные и переведут наверх, в беспокойное отделение. Я там бывал. Три раза. Этим бедолагам не дают даже смотреть вечернее кино по воскресеньям. У них и телека нет.
– А если будешь и дальше проявлять враждебные наклонности, то есть посылать людей к черту, тебе, друг мой, пропишут шокоблок, а может, и что-нибудь посерьезней – операцию или…
– Черт, Хардинг, я же сказал, что не секу в этой теме.
– Шокоблок, мистер Макмёрфи, это жаргонное обозначение кабинета ЭШТ, электрошоковой терапии. Это устройство, можно сказать, совмещает функции снотворного, электрического стула и дыбы. Умная такая процедурка, простая, быстрая, такая быстрая, что почти не чувствуешь боли, но никто ни за что не захочет ее повторения. Ни за что.
– И что там делают?
– Пристегивают к столу – какая ирония – в форме креста, только вместо тернового венца – искры из глаз. К вискам прислоняют контакты. Вжик! И дают тебе в мозг электроразряд на пять центов – сразу получаешь и лечение, и наказание за плохое поведение или сквернословие. К тому же после этого ты как шелковый, от шести часов до трех дней, смотря какой организм. И даже когда придешь в себя, еще несколько дней будут мысли путаться. Не сможешь думать связно. Память нарушится. Проделают такую процедуру достаточное число раз, и человек может стать таким, как мистер Эллис, который стоит там, у стены. Идиотом в тридцать пять, пускающим слюни и мочащимся в штаны. Или безмозглым организмом, который ест и испражняется и кричит «хуй ей», как Ракли. Или взгляни на Вождя Швабру, сжимающего свой тотем у тебя за спиной. – Хардинг указывает на меня сигаретой, и я не успеваю отойти; делаю вид, что ничего не замечаю, и мету себе дальше. – Я слышал, что Вождь в прежние годы, когда электрошок был в моде, получил больше двухсот разрядов. Представь, как это может сказаться на разуме, и без того помутненном. Взгляни на него: великан со шваброй. Вот он, твой вымирающий американец, подметальная машина шести футов восьми дюймов, боящаяся своей тени. Вот, друг мой, что нам может угрожать.
Макмёрфи смотрит на меня несколько секунд и снова поворачивается к Хардингу.
– Ну и дела. Как вы вообще терпите такое? А что же тогда за парашу гнал мне врач про демократию в отделении? Почему вы не голосуете?
Хардинг улыбается ему и делает еще одну медленную затяжку.
– За что голосовать, друг мой? Чтобы сестра больше не задавала вопросов на групповой терапии? Чтобы она не смела смотреть на нас особым взглядом? Скажите, мистер Макмёрфи, за что нам голосовать?
– Черт, да какое дело? За что угодно. Разве не видите, вы должны как-то показать, что вам не слабо? Не видите, что нельзя позволить ей совсем задавить вас? Взгляните на себя: говорите, Вождь боится своей тени, но я за всю жизнь не видел более запуганных ребят, чем вы.
– Но не я! – говорит Чезвик.
– Ну, может, и не ты, дружок, но остальные боятся даже засмеяться в открытую. Знаете, это первое, что я заметил, когда пришел сюда, – никто не смеется. С того момента, как я порог переступил, я не слышал настоящего смеха – вы это знаете? Блин, когда теряешь смех, теряешь силу. Когда мужик дает бабе до того себя затюкать, что уже смеяться не может, он теряет один из главных козырей. А дальше заметить не успеешь, как он станет считать ее круче себя, и тогда…
– А-а, – говорит Хардинг. – Похоже, мой друг понемногу врубается, братцы-кролики. Скажи-ка, мистер Макмёрфи, как показать женщине, кто главный, если оставить смех в стороне? Как показать ей, кто «король горы»? Такой мужчина, как ты, наверняка скажет нам это. Ты же не станешь мутузить ее? Нет – она вызовет полицию. И кричать на нее не станешь – она приструнит своего большого сердитого мальчика: «Это кто у нас такой мальчик-хулиганчик? А-а-а?» Или ты сумел бы сохранить боевой настрой перед лицом такого умиления? Так что, видишь, друг мой, как ты и сказал: у мужчины есть лишь одно по-настоящему действенное оружие против диктата современного матриархата, но это явно не смех. Одно оружие – и с каждым годом в этом обществе, помешанном на исследовании мотиваций, все больше людей выясняют, как противостоять этому оружию и сокрушить того, кто некогда был несокрушим…
– Господи, Хардинг, – говорит Макмёрфи, – ну ты и завелся.
– …И как по-твоему: сможешь ты, при всех твоих недюжинных психопатических силах, применить это оружие против нашей чемпионки? Думаешь, сможешь применить его против мисс Рэтчед, Макмёрфи? В принципе.
И поводит рукой в сторону стеклянной будки. Все поворачивают головы. Она там, смотрит на нас из-за стекла, со своим секретным магнитофоном, пишущим все это, – уже планирует контрмеры.
Сестра видит, что все смотрят на нее, и кивает, и все отворачиваются. Макмёрфи снимает кепку и запускает пальцы в рыжие вихры. Все теперь смотрят на него; ждут, что он скажет, и он это понимает. Он чувствует, что его загнали в угол. Надевает кепку и трет рубец на носу.
– Что, в смысле – смог бы я засадить этой старой стервятнице? Нет, не думаю, что смог бы…
– Она очень даже ничего, Макмёрфи. Лицо у нее вполне симпатичное и хорошо сохранилось. И, несмотря на все ее старания скрыть грудь под этим бесполым облачением, можно различить нечто выдающееся. Должно быть, в молодости была красавицей. Так или иначе, чисто теоретически, смог бы ты ей засадить, даже если бы не ее возраст, даже будь она молода и прекрасна, как Елена?
– Я с Еленой незнаком, но вижу, куда ты клонишь. И видит бог, ты прав. Я никому не смог бы засадить с такой старой холодной физией, как у нее, даже будь она прекрасна, как Мэрилин Монро.
– Так-то. Она выиграла.
Вот и все. Хардинг откидывается на спинку, и все ждут, что теперь скажет Макмёрфи. Он видит, что его приперли к стенке. Смотрит на лица с минуту, затем пожимает плечами и встает со стула.
– Да какого черта, меня это не особо колышет.
– Это верно, тебя это не особо колышет.
– И я, блин, не хочу нажить себе врага в лице старой перечницы с тремя тысячами вольт. Из одного спортивного интереса.
– Нет. Ты прав.
Хардинг выиграл спор, но никого это особо не радует. Макмёрфи цепляет большими пальцами карманы и пытается рассмеяться.
– Нет, сэр, я еще не слышал, чтобы кому-то предлагали взятку, чтобы он отодрал яйцерезку.
Все ухмыляются с ним, но им невесело. Я рад, что Макмёрфи будет осторожен и не ввяжется во что-то, что ему не по зубам, но и чувства ребят мне понятны; мне и самому невесело. Макмёрфи снова закуривает. Все стоят где стояли. Стоят и ухмыляются с безрадостным видом. Макмёрфи снова трет нос и отводит взгляд от этих невеселых лиц, окруживших его. Он смотрит на сестру и закусывает губу.
– Но ты говоришь… она не отправит тебя в это другое отделение, пока не раздраконит? Пока не добьется, чтобы ты слетел с катушек и стал материть ее, или расфигачил окно, или типа того?
– Пока не сделаешь чего-то такого.
– Значит, ты в этом уверен? Потому что у меня завелась кой-какая мыслишка, как нагреть руки на вас, птахи. Но не хочу облажаться. Я насилу удрал из прежней дыры; не хотелось бы попасть из огня да в полымя.
– Абсолютно уверен. Она тебя не тронет, пока ты честно не заслужишь беспокойное отделение или ЭШТ. Если будешь достаточно осторожен, чтобы она не придралась к тебе, она ничего не сможет.
– Значит, если я буду держаться в рамках и не стану материть ее…
– Или кого-нибудь из санитаров.
– …Или санитаров, или еще как кипиш поднимать, она ничего мне не сделает?
– Таковы правила, по которым мы играем. Конечно, она всегда выигрывает, друг мой, всегда. Сама она непробиваема, а учитывая, что время работает на нее, она в итоге добирается до каждого. Вот почему она считается в больнице главной медсестрой и имеет такую власть: она как никто умеет скрутить трепещущее либидо в бараний…
– Да к черту это. Что я хочу знать, так это могу ли я рассчитывать на безопасность, если сумею побить ее в ее же игре? Если я буду с ней учтив, как официант, никакие мои экивоки не заставят ее озвереть и отправить меня на электрический стол?
– Ты в безопасности, пока держишься в рамках. Если не выйдешь из себя и не дашь ей настоящего повода перевести тебя в беспокойное отделение или прописать электрошок, ты в безопасности. Но главное, не выходить из себя. Сможешь? С твоими рыжими вихрами и темным прошлым. Хватит выдержки?
– Окей. Порядок. – Макмёрфи трет ладони. – Вот что я думаю. Вы, птахи, похоже, уверились, что у вас тут такая чемпионка, да? Такая – как ты назвал ее? – да, непробиваемая женщина. Что я хочу знать, это кто из вас железно в ней уверен, чтобы поставить на нее деньжат?
– Железно уверен?..
– Именно так: желает кто-нибудь из вас, пройдох, получить с меня пять баксов за мое ручательство достать эту тетку – до конца недели – против того, что она достанет меня? Одна неделя – и, если она у меня не полезет на стенку, выигрыш ваш.
– Ты ставишь на это? – Чезвик перескакивает с ноги на ногу и трет ладони, подражая Макмёрфи.
– Ты чертовски прав.
Хардинг и еще кое-кто просят разъяснений.
– Все довольно просто. В этом ничего такого запредельного. Я же игрок. И люблю выигрывать. И я думаю, мне по силам выиграть в этой игре, окей? В Пендлтоне до того дошло, что ребята не хотели пенни ставить против меня – никто не мог меня обыграть. Ну да, одна из главных причин, зачем я переправился сюда, это чтобы найти новых лопухов. Скажу вам кое-что: я навел справки об этом месте, прежде чем сюда переметнуться. Чуть не половина из вас, парни, получает гребаное пособие, три-четыре сотни в месяц, а девать их совершенно некуда, только пыль собирать. Я подумал, что смогу нажиться на этом и, может, слегка обогатить вам жизнь. Я с вами откровенен. Я игрок и не привык проигрывать. И сроду такой бабы не видал, которая была бы бо́льшим мужиком, чем я, неважно, вставлю я ей или нет. Может, на ее стороне время, но у меня довольно длинная полоса везения, – он снимает кепку, крутит на пальце, подбрасывает через плечо и ловит за спиной другой рукой, – комар носа не подточит. И еще: я здесь потому, что сам так решил, учтите это, потому что здесь получше, чем на работной ферме. Насколько мне известно, я никакой не псих, по крайней мере – не замечал за собой. Сестра ваша этого не знает; она не станет остерегаться кого-то с таким острым умом, как, несомненно, у меня. Все это дает мне фору, и мне это нравится. Так что вот: пять баксов каждому из вас, если я не доведу эту сестру до белого каления за неделю.
– Я все еще не уверен, что…
– Очень просто. Я стану ей занозой в жопе, костью в горле. Раздраконю ее. Так ухандокаю, что по швам расползется, и станет ясно, в кои-то веки, что она не так непобедима, как вы думаете. За неделю. А судить, победил я ее или нет, будет не кто иной, как ты.
Хардинг вынимает карандаш и пишет что-то на картежной карточке.
– Вот. Залоговое обязательство на десять долларов из тех денег, которые пылятся у них в фонде, на мое имя. Готов поставить вдвое больше, друг мой, чтобы увидеть это невероятное чудо.
Макмёрфи смотрит на листок и складывает его.
– Еще кто-нибудь из вас, птахи, готов сделать ставку?
Выстраиваются остальные острые и расписываются в блокноте. Когда все расписались, Макмёрфи берет все карточки и кладет себе на ладонь, прижав загрубелым большим пальцем. Я смотрю на эту стопку у него в руке. Он тоже смотрит на нее.
– Доверяете мне хранить расписки, парни?
– Полагаю, мы ничем не рискуем, – говорит Хардинг. – Ты отсюда никуда не денешься в обозримом будущем.