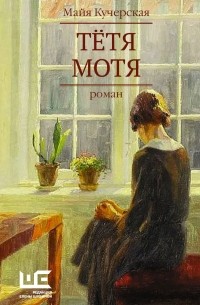Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава четвертая
Она ехала к Теплому, который, конечно, спит давным-давно, обняв любимого белого пуделя, как-то его зовут, забыла, к Коле – уставился вместе с отцом в экран, ехала с новым сочетанием цифр, крепко застрявшим в крошечных электронных мозгах мобильника, лежавшего во внутреннем кармане куртки, под самым сердцем. С новым проектом за душой, который убережет ее – нет, спасет.
Как, как случилось, что они с Колей столько времени вместе? Милый мальчик, смешной, кажется, добрый, но совсем другой, из другого круга. Да это-то и притянуло, с ума свело! И еще мама, мама твердила, да и когда не твердила, все равно, всем своим видом заклинала: нельзя оставаться одной. Только замуж! Обихаживала всех ее ухажеров, пекла для них пироги, особенно полюбила консерваторского Лесика, мальчика из интеллигентной семьи – с падающей на глаза серой челкой, целующего руки и маме, и Тете. Даже написавшего в Тетину честь сонату, но на самом-то деле – как ты не видишь этого, мама, почему же тебе меня не жалко? – влюблен Лесик был в одного себя и в собственную влюбленность. Отвалился через полгода, после краткого, но решительного объяснения. Мама пила валокардин. И переключилась на круглолицого, вечно краснощекого Сему Волчкова с их курса, слова не способного сказать в простоте – ироничного поэта. Он появился в ее жизни уже после университета, в начале аспирантуры. Сема дружил тогда с философом Веней Гробманом, часто вдвоем они и приходили, Веня запал на нее тоже и все цитировал Хайдеггера и Бубера, неведомых, полузапретных, но уже снимались все запреты… Мама склонялась больше к Вене, восхищалась его ученостью, Тете больше нравился Сема, он хорошо шутил, но ни тот, ни другой, конечно же, нет. Ни-ни.
После всех этих ломаных, болтливых!.. нервических – Коля, молчаливый, умелый, с робкой стеснительной улыбкой показался оплотом среди цветущих этих заплесневелых болот. Тем более когда позвал в поход.
Ни в какие походы она никогда не ходила. И никто у них не ходил – изнеженные филологи, не физики ж они какие-нибудь. Коля позвал на три дня, в майские, на байдарке. И она согласилась. Мама отпустила ее легко, хотя Коля был совершенно не в ее вкусе, только пальчиком погрозила – и не сказала ничего. Не волнуйся, мам, все будет хорошо! Потому что Коля – хороший.
Путешествие и в самом деле оказалось чудесным – окутанным зеленым прозрачным туманом, из которого торчали тонкие веточки в набухших почках, выглядывали внезапные, за излучиной, пригорки в елках, еще не обросшие зеленью коричневые поляны в желтых пятнышках мать-и-мачехи. И те же цветки, поляны лежали опрокинутые в темной воде, по которой плыли вместе с ними палки, травинки, черные деревяшки, водные жучки. Она вдыхала запах реки, мокрой земли, первых зацветших растений. Ей казалось: слышно, как осторожно расправляет легкие и дышит природа. Она сидела на корме, Коля греб. Во время стоянок приносила на растопку сухие ветки, собирала букетики из первых цветов и трав, Коля вбивал колышки в землю, ставил палатку, рубил дрова для костра, жарил на углях в закопченной сковородке тушенку, кипятил в котелке чай. Большие, красные, чуть шершавые руки, синие глаза, глядящие на нее весело и с заботой: Ты не замерзла? Кружка горячая, осторожно. Тише здесь, можно провалиться. Не устала?
Через протоку, которую надо было переходить пешком, Коля, перетащив вещи и байдарку, перенес на руках и Мотю. Спокойно, деловито шагал по ледяной воде босиком, обхватив ее железной хваткой, без лирических отступлений. Это было единственное объятие в тот поход, тогда Коля ни на что не посягал, только глядел на нее влюбленно, только заботился, быть может, бравировал своей легкостью и сноровкой, ну и что? Она им любовалась. И все смотрела в веселую синеву глаз и на руки.
Это было его пространство – зеленые берега, речка, птичьи курлыкающие голоса, голые, замершие в истоме деревья, вот-вот стрельнут листьями. И он делился с ней всем, раздавал его вот этими руками, отгораживал от опасностей, нес.
Чувство надежности, совершенно незнакомое, оборачивало, грело, точно спальный мешок, который тоже, кстати, выдал ей Коля – такой толстый и уютный, что она проспала в нем всю ночь на ежике и не заметила. Ежик устроился у нее в ногах, только утром Коля его обнаружил, выпустил на волю, рассмеялся. Она вообразила тогда: как вернутся в Москву, Коля позовет ее замуж.
Но только зимой у нее в гостях он спросил неожиданно: «Пойдешь за меня?» Она растерялась. Хотя думала об этом постоянно и в мыслях всегда отвечала «конечно». Но это же понарошку! Будет ли им счастье? Ведь никогда еще больше одного вечера, хорошо, не вечера – дня вместе они не проводили, а тут нужно остаться вдвоем на целую жизнь… И вдруг вспомнила: проводили. Поход. Три дня прожили рядом, и так легко. Руки, забота, глаза, мать-и-мачеха вспыхивает желтыми огоньками…
Тетя почувствовала, что снова засыпает, замотала головой, глянула вверх. Огромная луна плыла вместе с ней над дорогой, ныряла сквозь налегающую на землю ночь – темно-желтая, в легком рваном облачке, таком истершемся платье. Мечтала о бале, но вот что только и нашлось в небесном гардеробе – лохмоточки для толстой матроны. Ну и что ж – не постеснялась, вышла и плавно двигалась по небу, лила на землю неяркий, густо-оранжевый перекипевший свет.
Свадьбу назначили на 12 июля 1998 года.
Едва ее неизбежность стала очевидна, Тетя затосковала – жертва, приносимая на алтарь. Какой, чей? Алтарь обычая, так-принято, так-положено, надо-замуж. И не радость, не надежды – страх сжал горло: благоухающая, заросшая мать-и-мачехой земля, на которой она жила прежде, сжималась, превращалась в остров. И с каждым днем вода прибывала. К 12 июля она стояла на узкой полоске размером в четыре человеческие ступни. Коля был рядом, но она не понимала, не знала – спасет он ее? Удержит? Столкнет?
На свадьбе, уже после благословившей их загс-тетки в изумрудном пиджаке и бубнивого венчания, на котором настояла Колина мать, она получила последнее предупреждение – но и тогда поверить не могла. Хотя сколько раз потом вспоминалась та бабка – будто в отместку за то, что не послушалась ее и вовремя не сбежала.
Под навесами возле недавно перестроенного Колиным папой большого дома накрыли столы, свадьба была с размахом, гостей собралось под девяносто человек, Тетя видела меньше половины, кто-то сидел за ее спиной, кто-то так далеко, что лиц было не различить, но несколько бабушек сидели совсем близко. Одна из них – высокая, сухая, в небрежно повязанном цветастом платке, глядела на нее страшно тихим, убитым и почти бесцветным в легкую голубизну взглядом. Взгляд жил на лице отдельно, независимо от разгоревшихся после выпивки щек, тонких розовых губ, которые бабка часто облизывала, морщин, разбегавшихся по лицу, когда бабка улыбалась, кричала «горько» или пела.
Песни, которые в наступившей усталой тишине уже перевалившего за середину свадебного пира запели бабушки, были из давних времен их юности. Первая – веселая и простая. Тетя и сейчас помнила некоторые слова и незатейливую ритмичную мелодию:
Дружелюбно шамкали бабушки, и кое-где за столами им подпевали, в основном женские голоса. Николай был малый хоть куда:
Выводили старухи дальше с серьезными отрешенными лицами.
Расчесав головушку, Николай садился на коня и скакал через реку, к любушке, которая встречала его с графинчиком, наливала чарочку и подавала нареченному.
Тут Колина мать, низенькая, толсто-мягкая Валентина Матвеевна, толкнула ее под бок, и она послушно налила из стоявшего рядом графина в рюмку беленькой. Коля, который всю свадьбу почти не пил, рюмку с улыбкой принял, а она снова поглядела на него. Точно песня бабок ей Колю умыла. Высокий красивый парень с русыми золотыми волосами, глазами цвета июльского неба – он и в самом деле шагнул оттуда, из этой песни вечной, из русской синей дали, спешился, привязал коня, сел за стол.
Да неужто он теперь ее, ее муж? И радость, воздушная, восторженная, детская, тихо окатила ей душу.
Песня про Колю развеселила осоловелых уже гостей, они потребовали продолжения. Но остальные песни у бабок оказались грустные. И разобрать в них слова, как ни напрягала она слух, было сложней. Проклевывался только общий смысл: в одной, совсем короткой, кукушечка боялась, что вот-вот приедут бояре, а с ними нагрянет и жених, матушка утешала свою пташечку, как могла. В другой красна девица отпускала в реку свою девичью красоту – «ты плыви, моя красота, да в синюю реченьку, ни к которому бережку, ни к которому кустику не приплывай».
«И где же, где же оказывается эта девичья красота в конце концов?» – думала Мотя, но уже по синей речке плыла не красота, а «корабельки», полные гостей. Но и прибытие гостей в песне отчего-то было печально. Тут она и поймала взгляд.
Бабка в цветастом платке пела, глядя прямо на нее. В выцветших, когда-то голубых глазах горели безнадежность и скорбь. Точно предупредить ее хотели эти глаза. О будущем, о том, что впереди глупую кукушечку ждет такое, что много печальней, чем эти песни. «Беги, пока не поздно, девка!» – вот что прочитала невеста в бабкиных глазах. И думала рассеянно: все эти рубашечки, реченьки, головушки, мягкие ушки и нежные чириканья суффиксов – только фасад, попытка закрасить грозное будущее замужней жизни русско-народными узорами, утешить себя перед испытаниями. Но какими?
Ей казалось, в следующей песне явится разгадка, хотя бы намек – и она уловит, в чем дело, поймет, что уж такого ужасного в этой супружеской жизни и отношениях, по поводу которых так солоно и нагло шутят гости. Но бабки уже всем надоели. Песню про корабельки едва дослушали, все зашумели, снова заорали «горько», подняли еще раз рюмочки и громко, слаженно запели знакомое. Забили кукушечек миленьким моим, степь да степью, захлестали тонкой рябиной и даже пробравшимся контрабандой миллионом алых роз. Тошно ей стало от этих пьяных голосов, она порывалась встать, но не смела – Коля сидел и подпевал. Она молчала, хотя тоже знала слова.
Глядела на распаренные водкой незнакомые лица, серьезно и дружно открывавшие рты. Особенно отчетливо слышались женские, с затаенной истерикой, голоса – с соседнего стола, там собралась целая команда теток – всем им было под пятьдесят, все были сильно накрашены, наряжены в блестящие обтягивающие блузки, на толстых шеях висели тяжелые бусы… Подружки Колиной мамы? Впрочем, в женский хор вливался и басовитый подголосок, мужиков было заметно меньше, но сидели за столами и они – в белых рубахах (пиджаки все давно поснимали), с лицами запойных, но работяг, пашущих, может быть, и на Колиного отца Андрей Васильича, владельца трех шиномонтажных мастерских в Подмосковье.
Несколько Колиных друзей сидели за «молодежным столом», прямо за их спиной, она их не видела. Еще недавно смеялась за этим столом и белокурая Алена, ее свидетельница.
Алена, Алена… Тетя отвлеклась от мыслей о свадьбе и подумала с печалью – как хорошо они дружили, с самого десятого класса, как часто виделись тогда. С Аленой – умницей, переводчицей, она окончила иняз, работала в глянце, разъезжала по свету, – было так легко – вот уж кто никого никогда не осуждал! И это ведь Алена потом твердила ей, в ответ на ее жалобы-вздохи о семейной жизни: «Да в чем проблема, кисуль? Разбежаться и забыть!» Коля, точно чувствовал, сразу ее невзлюбил – «болтливая дура!» И теперь они встречались с Аленой страшно редко, раз в полгода-год, обычно на нейтральной территории – в кофейне или ресторанчике-суши, Алена питала к ним слабость. Обычно подруга вручала ей очередной шедевр: денег ради, а потом уже просто по привычке, она писала под псевдонимом «иронические любовные романы» – и шли эти книжечки в мягких обложках с задорными заголовками, как горячие пирожки. Энергичные, элегантные и такие же, как Алена, легкие герои с некоторым опытом разочарований за плечами в конце концов вытаскивали из колоды козырную карту и выигрывали – а на кону стояла любовь до гроба и ослепительное женское счастье.
Две фары резанули глаза в зеркальце синеватым светом, огромный джип сел ей на хвост, Тетя вежливо включила правый поворотник, ушла в соседнюю полосу. Даже и в пробке, собравшейся перед светофором, им хотелось быть первыми!
Тогда, на свадьбе, точно сразу почувствовав, что чужая всем, даже ей, теперь, – Алена быстро сбежала обратно в Москву – завтра утром на работу, мы же и по воскресеньям пашем. Она работала тогда, кажется, в каком-то цветном приложении к чему-то. И со стороны невесты осталась только мама, сидевшая за родственным столом, зажатая двумя Колиными тетками. В середине «острова на стрежень» раздался низкий, протяжный звук – где-то совсем близко замычала корова. Гости снова грохнули: подпела! Колина мать держала хозяйство – невесте все показали еще в первый ее приезд: в просторном сарае жила черная в белых пятнах Милка, в соседнем закутке мекали две козы, за следующей загородкой помещалась свинья с черными поросятами, за отдельной дверью – куры. Кажется, именно после мычанья к ней и подошла какая-то Колина родственница – невысокая, крепкая, надежная крестьянская порода – чем-то очень похожа она была на Валентину Матвеевну, только длинноносая, с черными крашеными волосами. Родственница приблизилась к Тете, не дала ей встать, обняла за плечи и, дыша водкой, вдруг прошептала влажно, почти касаясь губами ее уха: «Повезло тебе, девка. Колька наш – ведь чистое золото!» Тетя вздрогнула, отпрянула и получила новую порцию: «Золотой, грю, мужик». Родственница распрямилась, откинулась назад и, почему-то оглушительно заржав, ушла в сторону дома. Никогда с тех пор Тетя ее не видела, кажется, мать Колина с ней поссорилась, но фраза запала. Тогда Тетя согласилась совершенно – тем более в закатном солнце волосы у Коли действительно отливали золотым.
В опустившуюся темноту внесли украшенный свечками белый высокий торт. Под восторженные крики и чье-то настойчивое «Невесте – розочку!» торт разрезали. Ей все сильнее хотелось выключить звук, это никак не смолкавшее жадное «горько» и Колю. Язык его все веселей хозяйничал у нее во рту.
Тетя уже приближалась, поглядывала на щиты, не пропустить бы своего поворота, изредка с ней это случалось, стоит задуматься… Уже совсем недалеко от Голицына началась пробка, в такой-то час? Хотя перед светофором иногда так бывало. Из соседнего ползущего рядом «Гольфа» вырвалось «Напрасные слова…», м-да, так и есть, за рулем сидел дедок, видать, подглуховатый…
Малинин вздыхал из динамиков и на свадьбе. На освещенном прожектором пятачке возле крыльца неутомимый Андрей Васильич – коренастый человек с грубым лицом, кустистыми нависшими бровями и синими глазами – устроил танцы. Юрий Антонов, Алла Борисовна forever и кто-то еще, ей неизвестный, не из ее молодости… Гости танцевали с охотой, после пяти часов сидения за столом хотелось размяться. Даже мама разошлась и кружилась под «знаю милый, знаю, что с тобой» с Колиным папой, а потом еще с каким-то лысым мужичком в белой рубашке и галстуке.
Молодых наконец оставили в покое, из приличия они с Колей тоже потоптались немного на площадке, но, к счастью, к ним подошли Колины друзья.
Колин свидетель – самый длинный и симпатичный, коротко стриженный, с темным ершиком на голове – Серега, балагур и дамский угодник Ашот, поднявший за молодых два, один цветистей другого, тоста, худой, нескладный и молчаливый, слова не вытянешь, Леша, всю свадьбу честно их фотографировавший и наконец спрятавший свой большой фотик в футляр. Все трое были Колиными однокурсниками, учились с ним в одной группе в МИРЭА, с Ашотом Коля теперь еще и вместе работал. Леша единственный из них был женат, но жену оставил на даче – с годовалым сыном.
Серега, обняв ее и Колю за плечи, пьяновато, но проникновенно говорил про счастье на долгие годы, про любовь, которую очень важно беречь, но незаметно отвлекся, начал обсуждать с Колей новый сайт про железо, который Серега вот-вот собирался запустить. Ашота пригласила на танец местная девица в кожаной мини-юбке и посверкивающих в темноте сережках-кольцах, Леша слушал Серегу и Колю, а она с облегчением ушла наконец в темноту, за дом, туда, где был сад, переходящий в огород и грядки. К задней стене дома лепилась старенькая лавка, она присела, еле живая, прислонясь спиной к деревянной стене. Нет, все, конечно, могло быть и хуже. Она слышала жуткие рассказы подруг про упившихся вдрызг гостей, пьяные драки, какой-то идиотский выкуп невесты – ничего этого не было, и все-таки…
Что-то здесь было не то, и не только что все чужое, что-то еще. Сейчас она была рада, что никого из друзей, кроме Алены, не позвала сюда, никто этого не видел… Она чувствовала, что засыпает, спит. Перед глазами плыли все те же столы с бутылками, цветные этикетки, салаты, те же лица, слегка подсиненные вечером. Вместе с людьми, положив на стол передние копыта, сидели коровы, козы, во главе стола полулежала свинья, уронив пятачок в хрустальную салатницу с оливье. По столу между тарелок расхаживали куры и еще какие-то черные птицы – соколы? Стучали клювами по деревянной столешнице, клевали крошки. Коровы жевали листья салата, ловко заглатывали красные помидоры, снимая их черными языками прямо с блюд, козы хрустели редиской, иногда кто-то негромко мычал и блеял. Никого из человеческих гостей это соседство, похоже, не удивляло, и Тетя испытала наконец облегчение. Вот, оказывается, что не так на этом пиру! Вот что… Но додумать она не успела, столы оплавились, двинулись и потекли, побежали синей реченькой, птицы встревожились, забили крыльями, соколы взмыли в небо, курицы обратились в корабельки и поплыли по кудрявым волнам, один стол аккуратно втек в другой, второй – в третий, речка так и тянулась ровной лентой с пестрыми кораблями меж людей и зверей. Коровы не растерялись, склонились к воде, начали шумно лакать, корабли аккуратно огибали их широкие пятнистые морды. Коля легонько тряс ее за плечо, смеялся. «А я-то думал, наши балуются, раньше, знаешь, обычай был – крали невесту». Она улыбнулась: а меня украл сон.
Вскоре гости разбрелись, разъехались, в доме осталась одна родня. Она стояла в саду, круглые зеленые яблочки свешивались к самой голове, висели над плечами, рядом на кустах темнела смородина. По розовеющему небу плыли темные тучи, даже ночь до конца не растворила духоты. И какой-то заблудившийся мотылек все бился о ее плечо, о слегка поблескивающую серебристую отделку белого платья. Коля ждал ее, а она никак не могла двинуться с места. Наконец полузакрыла глаза и пошла, тихо-тихо.
Крыльцо, широкие деревянные ступени, заваленная подарками терраса, дверь.
В комнате душно. Полкомнаты занимает широкая кровать – расстеленная. Рядом простенькая тумбочка, на тумбочке погашенная лампа с желтым абажуром. Где же Коля? Она оборачивается. В углу стоит высокий мужик. Неприятно голый. Улыбается чуть смущенно. Но видно плохо – лицо его прячется в тени, зато туда падает слабый свет из окна.
Она читала книжки, смотрела фильмы: этот отросток нужно будет трогать, мять, гладить, может быть, даже, о господи, лизать языком. Тогда он оживет, обрадуется, засмеется, мягкая спинка упруго распрямится, отвердеет, и сарделька почувствует себя молодцом, добрым молодцем, бодро скачущим по полям, по лесам, к красной девице в терем. Тетя начинает задыхаться: давай откроем окно. Оно открыто, как-то бесцветно отвечает мужик. Чем здесь так сильно пахнет? Ах, да, запах стружки, пахнет деревом, Андрей Васильич обил эту комнату планкой прямо накануне свадьбы, и запах свежего дерева стоит неподвижно. Она делает шаг назад, к двери. Но мужик…
Коля? А кто? Кто еще, не узнала, я уж тебя заждался, он натужно усмехается, тянет ее за руку к себе, поворачивает спиной, расстегивает молнию сзади, стаскивает с плеч жаркое, измучившее за день жесткое, но так шедшее ей платье, освобождает уставшее тело. На полу остается кружевная белая горка. Ведет к кровати, сажает, расстегивает ремешки, снимает босоножки. Уже нетерпеливо и как будто с раздражением, едва приметным. Она наклоняется ему помочь, взгляд ее упирается во что-то блестящее, ровное – под кроватью стоят банки с вареньем, с огурцами, видно, те, что не поместились в погребе, который ей тоже показывали еще в самый первый приезд. Она запрокидывает голову, вкатывает обратно две вылезшие из глаз капельки. Давит внутренний ор спокойным, примиряющим, воркующим хорком тех песельниц: что ты, девка, так надо, так ведь положено, все правильно, все хорошо. И чуть тише, спокойней: Коля – твой муж.
Под самым окном кричит петух. Подушки, шкаф, Колю озаряет воспаленным фиолетовым светом, грохочет гром. На землю рушится дождь, в комнату врывается свежесть. Дождь льет до утра – чудный июльский ливень, он спасает их от продолжения – слишком широких гуляний.
Теперь она знала: в те первые дни Коля был с ней таким, каким никогда после. Никогда с ней, только с Теплым она изредка различала в нем ту, именно ту далекую и тогда ей одной предназначенную застенчивую нежность.
На следующий день, когда они лежали рядом глубокой ночью и все не могли уснуть, она призналась Коле, как ей понравились печальные старушечьи песни. И Коля начал ей петь. Вполголоса, мягко, низко. Он знал несколько песен, не свадебных, других, но тоже прекрасных – «перенял от бабушки», которая умерла к тому времени уже года четыре как. Это ее подружки пели на свадьбе. Самая близкая Матвевна, заметила? Которая высокая, и глаза у нее такие… Коля, я заметила, да! Муж ее был сволочь редкая, чуть не убил ее, несколько раз едва живая убегала от него, у нас сколько раз пряталась, в больнице лежала, он ведь даже сидел, за драку, нет, с мужиками, в тюрьму сколько посылок ему отправила. А вернулся, опять за свое, но лет десять как уж повесился, слава те господи. Тетя молчит, Тетя онемела. И, чуть прокашлявшись, Коля начал петь. Его песни тоже были из старых, из настоящих.
Вот только о чем были те Колины песни? Одна точно про утицу, серую утицу… А другая? Голос, мягкий баритон – помнила, а слов, слов нет. Ведь всего-то шесть лет прошло, но нет, не могла. Он пел ей совсем тихо, по ночам, пел для нее одной. Потом только она разобралась: на самом деле Коля был бессловесен, не любил слов, особенно сказанных вслух, и даже «я тебя люблю» произнес за все это время лишь однажды, но песни, песни помогали ему выразить… И Коля пел. И на вторую их ночь, и когда жили в гостинице в Питере, отправившись в недельное путешествие – на большее не хватило денег. Но это Тетя поняла после. А тогда ей быстро стало скучно. Песен было всего три, четыре. Все одни и те же. Ей хотелось говорить с ним, обсуждать прошедшую свадьбу и всех гостей, и как они будут жить дальше – в общем, поболтать с ним всласть, как с Аленой, как с подружками, но Коля пел. Каждую божью ночь. Ох уж эти утицы… Глаза у нее слипались, ей казалось – что ж, попел и хватит, в конце концов довольно и того, что было перед песнями. А слушать из раза в раз… и едва дожидалась, когда утицы долетят куда надо. Давя зевок, говорила – как ты хорошо поешь, спасибо, спокойной ночи тебе.
Больше никогда уже он не пел ей. Сколько ни просила. Зачем? Пожимал плечами, смотрел мимо… Как же быстро кончилось все!
Да почти сразу и кончилось. Едва вернулись из недельного путешествия, едва начала распаковывать подарки в щедро купленной Колиным отцом невероятно просторной, почти пустой еще квартире на улице Вавилова.
– Коля наш, – рассказывала ей еще до свадьбы Валентина Матвеевна, мастерица солить огурцы, – мясо любит, не остановишь! Из супов – борщ, обязательно с капустой, а вот к сладкому он не очень.
Тетя лет с восьми, вскоре после того как умерла бабушка, росла на макаронах и сосисках, мама терпеть не могла кухонные хлопоты. Иногда только по вдохновению пекла необыкновенно вкусные булочки сердечком и пироги по бабушкиному рецепту. Но мужу надо было готовить. Он привык есть мясо и борщ.
Среди горы свадебных подарков Тетя обнаружила миксер, электрическую мясорубку, несколько разнокалиберных сковородок, мисок, кастрюль. И большую картонную коробку с прозрачной пластиковой крышкой, под которой лежали ровным рядком сверкающие инструменты неизвестного назначения. Вполне она опознала только половник (но какой-то маленький).
Тетя аккуратно распаковала тогда эту таинственную команду, вынула друг за другом гигантскую вилку отчего-то всего с двумя острыми зубцами, гладкую наклонно крепящуюся к ручке лопатку с длинными продольными отверстиями, великанскую ложку тоже с отверстиями-полосками, загнутую кружком пружинку на ручке, половник и другой, напоминающий ежика – с зигзагом по краям и вытянутой щелью посередине – что таким, спрашивается, можно налить? Лишь ощупывая вогнутый, дырчатый кружок на такой же, как и у всех остальных, длинной металлической ручке – из дальних глубин памяти, связанных, то ли с уроками труда в четвертом классе, то ли с просторной полутемной кухней в бабушкиной еще коммуналке, на поверхность сознания всплыло слово «шумовка». Дно коробки выстилала белая хрустящая бумажка, на которой обнаружились довольно точные портреты всех железяк и несколько строк возле каждого портрета – на двух языках сразу, итальянском и китайском. На коробке значилось Ghidini. Имя ее врага, бога, которому оставалось только покориться. Тетя признала его силу, его власть над земными дарами, бесформенной кучей нарезанного лука, натертой морковки, нашинкованной капустой – лишь он мог обратить эти обрезки в единое, вкусное блюдо. Оставалось отдать ему по-военному честь, недаром и рецепты в кулинарной книге звучали как короткие приказы. «Промыть рис», «смешать три яичных желтка», «влить два стакана воды», «на гарнир подать гречневую кашу».
Сколько неизвестных слов и понятий она выучила в те героические недели, сколько нового узнала, впервые открыв для себя, чем ростбиф отличается от шницеля, а гуляш – от антрекотов, что значит «толстый край», «оковалок» и слово, за внешним легкомыслием таящее издевку, – «голяшка»!
Коля приходил с работы неизменно уставший, пахнущий потом, все собиралась подарить ему дезодорант, но не решалась, жаловался, как тяжело было, – «опять целый день лазил под столами» – она уже знала, это значит, чинил чьи-то компьютеры в своей фирме. Без году неделя муж даже не делал вид, что рад ей. А на торжественное объявление, что сегодня у них на ужин антрекот по-эльзасски и картофельная запеканка с соусом из паприки, лишь снисходительно усмехался. Он воспринимал ее подвиги как должное. Она пока не работала, школа не началась – ну и чем ей еще-то заниматься, как не стряпать мужу? Мужу, который не привык оставлять еду на завтра, сколько бы ее ни приготовили. Тетя и не подозревала, каких масштабов достигает мужской аппетит. И с грустью, которой сама стыдилась, наблюдала, как несколько часов ее кулинарных чародейств исчезают за каких-то двадцать минут ритмичной работы Колиных челюстей.
Ее спас дефолт, грянувший в конце августа. Оптовые рынки опустели, цены поползли вверх, в Колиной конторе перестали платить зарплату, и можно было с легким сердцем варить на ужин макароны или картошку. К тому же начался учебный год.
Симпатичный, так пленявший ее поначалу своей простотой и чистотой душевной человек с золотистыми волосами, большими, крепкими, чуть красноватыми руками, ее муж навалился на нее всей своей тяжестью, всеми своими кошмарными привычками. Русский muzhyk. Цвет у этого мужицкого был красно-бурый, как запекшаяся кровь. Кровь была ее.
Коля никогда не мыл за собой посуду, и если ее не было дома, аккуратно складывал грязные тарелки в раковину. Не выносил ведро, даже если мусор сыпался наружу. Не менял каждый день носки и рубашки. За время своей общежитской жизни он привык экономить одежду. Она упрямо относила все в грязное и выдавала ему новое. Они ссорились, Коля кричал: зачем стирать еще совсем чистые вещи! Они от этого портятся!
Сверкнул белый щит с ее поворотом – чуть не пропустила! Она повернула, и тут же зазвонил мобильный. Коля.
– Далеко еще?
– Нет, уже рядом, повернула только что.
– Ясно. Скорей давай.
Отбой. Но что-то в его голосе подсказало Тете: не отвертеться. И сегодня как всегда будет супружеский долг.
Обманули все. Толпы стихотворцев, художников, режиссеров, воспевавших чувственную любовь. Рисовали, снимали на пленку бесчисленных голых женщин с розовой, сияющей внутренним светом кожей и врали, врали в глаза, утверждая, что нет в мире ничего слаще этого слияния, а на самом деле пыхтенья, жадной возни на тебе, жалкого стона в долгожданном финале. Хоть бы кто предупредил. Лгали в рассказах о своих приключениях и подружки, Алена и Вероника, томно вздыхая и давая понять, как же это классно. И целомудренная Тишка молчала… хоть она-то могла намекнуть? Потому что и все остальные обманули, все, кто так же упорно обходил эту тему молчанием, легкими бессовестными шагами обходил, ускользая в бессодержательные смутные намеки, все эти бесчисленные старшие, делавшие вид, что ничего такого не существует вовсе. Проклятие человеческого рода.
Даже теперь, шесть лет спустя, она так и не смогла до конца примириться, так и не увидела в этом ничего, кроме… крыски на велосипеде.
Однажды, сидя в те самые тяжкие дни первого послесвадебного месяца в очереди к зубному в свеженькой, новорожденной клинике и перебирая журналы на столике, среди блестящих, пестрых обложек Тетя наткнулась на обложку из детства: «Наука и жизнь». Журнал по-прежнему выходил! Она открыла наугад и попала на научно-популярную статью об экспериментах генетиков над мышами и крысами. Один из них поразил ее. В ту часть мозга, что отвечала за эйфорию, зверьку вживляли электрод, а к лапке подводили педальку, которая включала ток и стимулировала центр удовольствия. И что же? Забыв про сон и еду, крыска жала и жала на педаль в жажде счастья, пока не погибала.
Уже в кресле у доктора, совсем молодого, веснушчатого, мохнатого, открыв рот и уперевшись взглядом в глухую кирпичную стену дома напротив, она смотрела мультик – цветной.
На велосипеде катила темно-серая крыса Нюша, блестела черными глазками, мчалась вперед и вперед, по правильному кругу, точно вписанному в квадрат кирпичной стены. Нюше вживили в мозг тонюсенький проводок – в то место, где хранилось у нее сокровенное, вот ей и показалось: ни на каком она не на велосипе… а мчится в бесконечный синий космос, по лунным дорожкам, в необъятную радость, вот и милый Вася трется своим хвостиком рядом, зачинает ей новых и новых крысят. Нюша восторженно попискивает, задыхается, потеет, крутит педальки, хочет, хочет еще. И Вася послушно трется. Час, два, четыре. Силы у Нюши кончаются, лапки слабеют, двигаются все тише, замирают. Но стоит им перестать работать, поднимается черный вихорь, Вася со страшным оскалом пропадает во мраке, розовые Нюшины ушки различают жуткий предсмертный стон. В полуобмороке Нюша бросается к своим педалькам. И чудо. Вася снова тут, делает свое сладкое дело. Нужно только крутить и крутить педальки, работать лапками. Не есть и не спать, не прыгать, не бегать, вперед и вперед. Остановиться она не может, пока… не летит вниз! Велосипед, точно пьяный, проезжает еще несколько сантиметров, скрюченная крыса лежит на лабораторном столе. Сердце бедной Нюши, а потом и других ее зубастеньких сородичей, не выдержав напора эротического удовольствия, разорвано на клочки. Так бывало и с людьми, летальный исход на вершине блаженства. Любовь и смерть.
Коля останавливался обычно раньше. Тетя возвращалась назад, спрыгивала с Луны, удивляясь только одному – не умерла. От чего? Вот тут и начиналась тоска.
Это был не Коля и никакая не любовь, это был проводок. Вживленный в нужное место. Физиологический процесс, который никак не соприкасался с чувством к мужу и уж совсем не пересекался с чем-то еще – самым важным, ради чего стоит жить.
Вот о чем они не рассказали тоже. Про крысу Нюшу.
И через год дом взорвался. Ее дом одновременно с теми, и сравнение не казалось ей кощунственным. Крыша поползла, здание красиво, как в фильме, накренилось – компьютерная графика, новейшие технологии. Вылететь на свободу она не успела. Лежала под плитами, кирпичами, чайниками, половниками, шумовками, разбитыми чашками, пианинами, обгорелыми коврами, столами, шкафами, вешалками, оплавившимися зубными щетками, телефонными проводами, люстрами, батареями, паркетными досками. Ее вытащил из-под руин Тема. И все эти годы так и тащил ее и Колю на себе. Обнимал их и всех, кого знал и видел. А недавно сказал вдруг перед сном: «Мама, я так устал от любови». Что? Как это? Но Теплый не добавил ни слова и тут же отправился в поход. С черным драконом и анакондой. Путь их был в Африку.