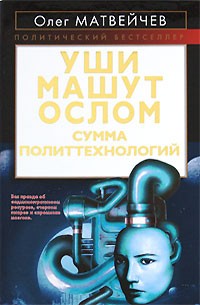Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Невозможное – наша специальность[14]
Название доклада – это цитата из фильма «Блеф». Ее произносит человек, чья профессия сходна с нашей – придумывать и совершать трюки. Консультанты занимаются тем, что с точки зрения обычного человека «невозможно», решают проблемы и находят выход из тупиковых ситуаций.
Пример из древности: два китайских царства долго враждовали друг с другом, и ни одно никак не могло одержать победу – силы были равны. Но однажды войска одного царства ушли из столицы на помощь союзнику. В городе остался только сам правитель и его окружение. Узнав об этом, неприятель быстро снарядил войска и подступил к столице. Положение безвыходное. Правитель был готов вывесить белый флаг и начать переговоры об унизительной дани. Ситуацию спас советник. «Откройте ворота, – сказал он, – и пусть метельщики подметают улицы. Вы же, государь, поднимитесь на башню и спокойно стойте и смотрите на подступающего неприятеля». Поначалу советника сочли сумасшедшим, но, поскольку ситуация была безвыходная, царь схватился за соломинку. Неприятель подошел вплотную и остановился. Через некоторое время враги спешно собрались и отступили. «Что случилось?» – спросил государь у советника. Советник ответил: «Вражеский военачальник знал, что в городе нахожусь я – великий стратег и советник. Когда он увидел нас на башне, он подумал: „Не может быть все так просто. Наверное, тут какая-то хитрость. Меня хотят заманить в ловушку. Лучше уж отступить и победить соперника в честном бою“.
Как видите, безвыходных положений не бывает, советники порой могут делать невозможное, несмотря на отсутствие ресурсов для борьбы. Консультанты видят ресурсы в том, в чем их никто не видит, умеют максимально использовать даже те скудные ресурсы, которые есть. Вместе с тем, моим глубоким убеждением является также другое: невозможное сделать невозможно. То, что невозможно, не следует даже пытаться делать.
По всей видимости, когда я говорю о том, что консультанты делают „невозможное“ и когда я говорю, что невозможно сделать невозможное, я имею в виду два разных „невозможных“. Люди часто путают „возможное“ с „невозможным“. О том, что сделать действительно невозможно, говорят как о желаемой перспективе и собираются потратить много сил для достижения заведомо недостижимого результата. О том же, что возможно, говорят как о „невозможном“, „далеком“, „ненужном“, как о фантастике, и никто всерьез не собирается этим заниматься. Хотя стоило бы.
К делу. К „невозможным“ вещам относится все, что противоречит человеческой природе, понятой как свобода, воля, разум. Из свободы человека, например, вытекает право собственности как право сильного потреблять, использовать, формировать более низшее. Человек дышит воздухом, потребляет мясо животных и растения в пищу. Эти „сущности“, может, и самостоятельны для себя, но для более высокого, то есть для человека, они – ресурс. Человек может оставить след своей воли на вещах, обозначить их как собственность. Всякие „коммунистические“ и „социалистические“ идеи о том, что собственность это историческое явление и ее можно отменить – чушь. Собственность все равно возьмет свое. Ее гонишь в дверь – она в окно. В СССР говорили, что у нас нет „частной собственности“. Но люди потребляли вещи, владели ими и т. д. Тогда стали придумывать казуистические различия: „частная собственность“ и „личная собственность“. Но эти различия оказались только количественными. Кроме того, процветала теневая экономика. А в итоге во время перестройки все вернулось на круги своя. Природа (свобода) взяла свое.
С одними „тоталитарными“ иллюзиями мы расстались. С другими – нет. Те, что считают себя „демократами“ и „прорабами перестройки“, оказались сторонниками жесткой цензуры, запретов, ограничений и прочего держимордства. „Свобода – это ограничения“, – говорят они, но забывают, что эти ограничения могут проистекать из самой свободы и для ее же роста, и относятся не к самой свободе, а к „несвободной части природы человека“. Впрочем, серьезная метафизика этим господам недоступна. Они не читали Канта, Фихте или Гегеля – духовных отцов западного мира в его современном варианте.
Вернемся и к тому, что же они хотят ограничить и запретить. Запретить хотят „скрытую рекламу“, „гипноз“, „бессознательное воздействие на людей“, „психотронное оружие“ и т. д. Пугают народ, придумывают какие-то законы. Подобно тому, как эти „законодатели“ невежественны в вопросах того, что они защищают (якобы защищают „свободу личности“), так же они невежественны в вопросах того, на что нападают. „Бессознательное воздействие“, „гипноз“ и прочее является такой же частью нашего общения, как и рациональная, сознательная составляющая. Мы постоянно, сами того не ведая, „гипнотизируем“ друг друга: взглядами, туманной или быстрой речью, паузами, жестами и прочее. Кто-то сегодня тут выступал против использования „цветового воздействия в рекламе“. О чем человек говорит? Все цвета так или иначе воздействуют на настроение людей. Отказаться от цвета? Но черно-белая гамма – тоже воздействие и куда более суггестивное!
Например, я произношу речь. У нее есть рациональная составляющая, но мой пафос вводит кого-то в транс, заставляет внимательно прислушиваться, кто-то наоборот заскучал, а скука – тоже один из видов гипнотического транса. Понятие „скрытой рекламы“, как и понятие „рекламы“ вообще, чрезвычайно неопределенно. Любая оценка, любой показ товара или кандидата в СМИ можно назвать рекламой. Но чтобы сделать имидж человеку, его можно и не показывать. Есть много других способов. Можно, конечно, посадить сотни контролеров из изберкома в каждую редакцию. Но чего мы этим добьемся? Трата денег налогоплательщиков – раз, произвол со стороны контролеров – два. В конце концов, то, что кандидат ходит по улице – уже реклама, его же люди видят!
С вопросом о „предоставлении равных возможностей“ такая же глупость и неразбериха. Равенство „рекламных возможностей“ так же утопично, как и всеобщее равенство в собственности, в физических и умственных способностях и т. д. Люди равны. Равны в своем качестве „свободных“ и правах, которые из этой свободы вытекают. На этом равенство заканчивается. Теперь все зависит от того, как „свободный“ своими правами воспользуется. Зароет талант в землю или пустит в рост.
К чему ведут искусственные ограничения избирательных фондов? К тому, что все финансируется черным налом. Это нужно для экономики? Дайте полную свободу в формировании избирательного фонда, и вы получите только плюсы. Во-первых, сами суммы этих фондов кое-что расскажут о кандидате и для кого-то будут сигналом не голосовать за него. Во-вторых, фонды кампаний найдут, наконец, свою естественную границу. Поначалу, от радости, естественно будут вкладывать в кампанию большие деньги, но потом задумаются: а нужно ли так это мэрское, депутатское кресло, а стоит ли оно таких денег?
Если же человек одержим идеей (например, победить на выборах), он пойдет ради нее на все: это закон жизни, закон воли. В период войны, кризиса и т. п. происходит мобилизация всех ресурсов. Это закон и для тела (подтвердят врачи) и для ума. Идти против этого закона бессмысленно. Запрещать – заниматься заведомой глупостью. С тем же успехом можно запретить людям заниматься любовью. Они все равно будут это делать. Единственный способ бороться с „законом мобилизации“ – подорвать у человека веру в цель. Дискредитировать эту цель, объяснить ему, что для достижения этой конкретной цели не стоит мобилизовать все ресурсы.
От заказных убийств множество бизнесменов отказались не потому, что они запрещены законом (они были запрещены и в 1990–1994 годах, когда шли криминальные войны), и не потому, что милиция стала лучше работать, а только потому, что в среде предпринимателей возникло понимание: нет цели достаточно серьезной для того, чтобы ради нее можно было пойти на убийство. С другой стороны, убийство обесценилось, так как оно прибавляло больше проблем тому, кто его заказывал. Если ты кого-то „заказал“, ты уже никогда не будешь чувствовать себя в безопасности. Права на собственность, ради которых ты бился, оказываются в тысячу раз менее гарантированными, чем раньше. Не карательные органы, а внутренняя конкуренция уничтожила „заказное убийство“ как типичный способ решения проблем собственности. Но убийство это вещь, так сказать, которая может быть засвидетельствована объективно, так как человеческое тело – некоторое материальное сущее, и уничтожается оно тоже с помощью материальных предметов.
Если же брать виртуальные вещи, мир информации, то здесь „объективность“ тает, и здесь „факт“ виртуальной смерти установить невозможно, равно как и „причины“ и „источники“. Все „имиджмейкеры“ и „политические консультанты“ – это своего рода „виртуальные убийцы“ и „виртуальные телохранители“ (если брать тот аспект их работы, который касается взаимоотношений в конкурентной среде).
Возьмем такую „информационную технологию“ как „клеветнический слух“. За клевету у нас преследуют по закону. Но кого, где и как можно преследовать? Если бабушка на кухне назвала некоего кандидата Иванова „ворюгой“, можно ли ее преследовать? Она от кого-то это услышала, или ей приснилось, или она так считает, потому что ей с детства внушили, что „богатые честными не бывают“. А если эта бабушка написала то же самое в „письме в редакцию“? А редакция опубликовала? А кто-то размножил ксерокопию статьи в большом количестве экземпляров? На какой стадии произошло „нарушение закона“? И где „качественный скачок“?
„Распространение клеветнической информации“ – тонкая вещь. Почему бабушке можно, а газете нельзя? Ведь бабушка в трамвае может распространить информацию большему количеству людей, чем, например, заводская малотиражка. А если учесть, что все, кто что-то услышал от бабушки, расскажут своим родственникам, друзьям, знакомым, а те, в свою очередь, своим? Где в законе сказано о количестве людей, которым что-то можно донести? В конце концов, бог с ней, с бабушкой. Сегодня есть такая чудесная и демократичная вещь как Интернет. Технически возможно открывать анонимные сайты, зарегистрированные в Сингапуре, Туркмении и Бразилии. Там может появляться „клеветническая информация“. Какая-то газета может все это перепечатать. Кто будет отвечать? Действует эффект „глухого телефона“. И никто никого никогда не поймает. И никакие „юридические рогатки“ не спасут.
Говорят, что под каждым материалом „за“ или „против“ кандидата должна стоять надпись: „на правах рекламы“. А если редактор просто публикует „письма читателей без купюр“? И никто ему „рекламу“ не проплачивал и налоги он с нее заплатить не может? Он должен будет предъявить оригинал письма? Запросто. Этот оригинал по его просьбе своим почерком напишет соседка по лестничной площадке. Нужно предъявить самого автора? Но есть право на анонимность. В конце концов, можно привести и живую бабушку системы „божий одуванчик“.
Время от времени раздаются требования запретить „псевдонимы“. Мало того, что это также невозможно, как невозможно запретить анонимность, но это еще и показательно – до какой деградации дошли наши „правозащитники“ и „демократы“. В свое время требование „свободы печати“ было тесно сопряжено с правом на псевдоним. Все деятели эпохи Просвещения (то есть духовные отцы наших либералов) защищали право на псевдоним, так как только в этом случае читатель видит что написано, а не кто написал. В конечном счете важна суть. Кто автор – важно знать только власти, репрессивному механизму. Известный французский философ и социолог М. Фуко в статье „Что такое автор?“ разъясняет историю возникновения понятия „автор“ и говорит, что оно стало важным и появилось только в момент формирования элементов современной тоталитарной власти.
Есть и еще один аспект в проблеме распространения „слухов“ и „клеветы“. Как они на самом деле действуют? Действительно ли являются „виртуальным убийством“? Может быть, они поднимают известность человека, раскручивают его? Или представляют его в массовом сознании как „жертву клеветы и обмана“, и, тем самым, увеличивают „приверженность“ электората данному кандидату?
Сегодня предвыборные технологи редко занимаются тем, что запускают слухи о соперниках. Они „клевещут“ на своего клиента, чтобы потом представить его „жертвой темных сил“, „гонимого радетеля за правду“.
Как прикажете бороться с подобными „трюками“, господа юристы? Ведь если ты сам организовал клеветническую кампанию против себя, не в твоих интересах привлекать к ответственности ее исполнителей. А если даже и не сам, но знаешь, что она тебе помогает, то тоже не в твоих интересах. А если кампания вовсе не клеветническая, но, чтобы ее сделать похожей на клеветническую, субъект нарочно гипертрофирует данные (одна газета написала, что он украл 100000 долларов, а он тут же заказывает публикацию, где пишется, что он украл 10 миллионов долларов, а потом, в выступлении, „на пальцах“ доказывает, что „эти обвинения – абсурд, так как к таким деньгам он даже не имел доступа“. Верно, к 10 миллионам – не имел. Но за этим спором забыли о 100000, которые он и правда украл). Во всех этих схемах потенциальные „истцы“ являются и заказчиками, а потенциальные „ответчики“ – исполнителями.
Как бороться с этим? Запретить схемы, интриги? Запретить людям вообще выдумывать, врать, шутить, наконец? У. Эко в своем выдающемся романе „Имя розы“ изобразил предел тоталитарного мышления в лице монаха Хорхе: главное его стремление – запретить „шутки и смех“.
Серьезность, взвешенность, разумность, объективность, ответственность… Знаете, где чаще всего встречаются эти слова? В „Майн Кампф“ Гитлера. У него целые главы посвящены критике „демократии“ как „тотальной безответственности“, „круговой поруки“, „глухого телефона“. А если взять 10–15 страниц из Гитлера и, не афишируя авторства, дать прочесть тем, кто выступает за „права личности“ и призывает уголовно наказывать „безответственных консультантов“, то со 100-процентной уверенностью могу утверждать, что они с радостью подпишутся под этими страницами, думая, будто автор какой-нибудь известный моралист. Не стоит забывать сказанное бароном Мюнгхаузеном в фильме М. Захарова: „Чаще улыбайтесь, господа, у вас слишком серьезные лица. Все глупости на свете делаются именно с этим выражением лица“.
Есть мнение, мол, наши люди и наши консультанты еще не доросли до „цивилизованных методов“. Якобы на Западе нет ни клеветы, ни лжи, а если и появляются, общество сразу всех карает. Эти рассуждения – продукт обычного невежества наших псевдолибералов. Еще в 1990-е годы в их среде распространился миф о том, что на Западе существует „300-летний опыт жизни в условиях демократии“, а Россия вечно шла в пику Европе по противоестественному тоталитарному пути, на что у нас есть „исторические предпосылки“. Что касается предпосылок, то это мифы, идущие от незнания истории. Россия всегда на протяжении всей истории была одной из самых гуманных, довольно зажиточных, культурно-развитых и привлекательных для жизни стран мира.
Теперь посмотрим на Америку – идеал наших либералов. Не в Америке ли еще в XIX веке процветало рабство? Не в Германии ли, в самой культурной стране Европы, возник фашизм и получил невиданное развитие антисемитизм? Не Америка ли, опять-таки, „свободная и гуманная“, бомбила женщин и детей в Хиросиме и Нагасаки? Не там ли в 1950–1960-е годы развернулась „охота на ведьм“, аналогичная сталинским „чисткам“ (масштабы чуть поменьше, но горе не измеряется количеством). Не в Америке ли таблички „только для белых“ исчезли только в середине 70-х годов XX века?
Можно приводить еще много примеров о пресловутых „традициях гуманизма и демократии“ на Западе. Суть их в одном. Они призваны иллюстрировать мысль, что „Запад“ стал таким, каким мы его знаем, лишь 15–20 лет назад. И Россия „отстала“ от него не на 300 лет, и не на 70 лет, а как раз на это время. Не больше.
Но самое большое „разочарование“ ждет наших псевдолибералов, если я скажу, что эволюция Запада идет вовсе не по пути „прогресса правды“, а, скорее, по пути „прогресса обмана“. Успех западной цивилизации обеспечивается тем, что она умеет активизировать „естественные потребности“ и создавать новые потребности, как у своих народов, так и у других. Потребности нуждаются в удовлетворении с помощью товаров и услуг. Они, в свою очередь, производятся и обновляются. Экспансия Запада – это экспансия „западного образа жизни“, который, в свою очередь, производится Голливудом, литературой, рекламой. По сути Голливуд – это большое рекламное агентство.
Но что такое реклама? Вся она – обман, искусство шоу, представления, видимости, мифа. Под объяснение этого мифа попали не только наши псевдолибералы, но и японцы, китайцы, латиноамериканцы.
Возьмите любой рекламный ролик. Обработайте, не поленитесь, половину яйца „Бленд-а-медом“ и опустите в кислый раствор. Посмотрите, что получится. Возьмите мороженое „Винетта“ и узнайте, правда ли, что „одного кусочка всегда мало“. Есть смельчаки, призывающие за „недобросовестную рекламу“ судить. Попробуйте, осудите! Вся реклама недобросовестна. Потому что добросовестность никогда не может состоять в том, что „плохое – прячут, а хорошее – выпячивают“, но именно это делает реклама!
Может быть, кто-то из присутствующих здесь правозащитников будет выступать за наказание американцев за их политику в Косово или за бомбежки Белграда? Ведь их пропаганда – это „недобросовестное применение“ двойных стандартов. Что позволено албанцам – не позволено сербам. И после этих бомбежек некоторые заявляют, что там у них „цивилизованное общество“, у которого нам надо учиться. Можно учиться, но чему? Обману и умению строить отношения со СМИ и с общественностью? Можно возразить: ну вот, вместо того, чтобы учиться чему-нибудь хорошему (гуманизму, этике), нам предлагают брать плохое – пережитки прошлого, варварство и т. д.
На самом деле именно обман и гуманизирует цивилизацию. Этот варвар не обманывает. Один деятель предлагал запретить или взять под контроль Интернет, так как с его помощью теперь легко „грабить банки“. А что, до Интернета никто банки не грабил? Грабили и оставляли кучу жертв после злодейства. То, что теперь все обходится бескровно, и есть гуманизирующий фактор. Что же касается самих ограблений, то они будут всегда. Прогресс не в том, что от большего количества ограблений и убийств мы идем к меньшему (это не так, скорее, верна обратная тенденция), а в том, что способы этих ограблений и убийств гуманизированы. От физических грабежей и убийств мы перешли к виртуальным грабежам и убийствам. Человека убивать теперь просто незачем. Что толку в устранении его физического тела? Главное – его символический капитал (по выражению П. Бурдье). Можно убить Ленина, но он будет „живее всех живых“. А вот дискредитация коммунизма и сепаратизма, уничтожение имиджа и репутации вождей и показ того, насколько они не соответствуют тому, что призваны воплощать, – куда более эффективно. Это я и называю „виртуальным убийством“.
Искусство видимости, шоу настолько вошло в плоть и кровь западного человека, что там и доверяют только тому, что находится на виду, на свету. Я, например, плохо отношусь к некоему человеку. Но при встрече с ним здороваюсь, улыбаюсь, расспрашиваю о делах. Что есть „правда“? Мое „отношение“ или мои поступки? Для западного человека реальны поступки. Мои личные эмоции никого не интересуют.
Можешь относиться ко мне как угодно, но если не поджигаешь мой дом, не сплетничаешь обо мне на работе и т. д., твое отношение ко мне я буду считать хорошим.
Совсем другое в России. В видимом мире, у нас считается, „правды“ нет. Град Китеж утонул и где-то далеко под водой. „Правда“ – то, что говорят по „секрету“, то, что неофициально. На этом полном недоверии всему консультанты и политики постоянно спекулируют. Все, что пишут в официальных газетах – якобы ложь, а вот „подметная“ листовочка – это „правда“. На Западе человек привык доверять прессе, государству, общественным институтам и не доверять всему темному, подковерному, таинственному. У нас наоборот: государство – враг номер один.
В этом перевернутом мире – полный простор для подметных писем, клеветы и прочего. Но это все действует и будет действовать до тех пор, пока сознание не перевернется, пока люди не начнут доверять тому, что на „свету“. Как этого добиться? Да уж, конечно, не запретами. Чем больше будете запрещать, тем сильнее будет желание вкусить „запретный плод“, тем меньше доверия к репрессивным механизмам. Не надо попадать в зависимость к тому, против чего ты работаешь. Бог не борется с дьяволом. Дьявол борется сам с собой. Имя ему легион. Так называемые „черные технологии“ исчезнут сами, как только их применение превысит критическую массу. Закон рынка: большое предложение обесценивает товар. Когда-то большой ценностью были гороскопы. Некоторые домохозяйки выписывали газету, только если в ней был гороскоп. Сейчас, когда он есть в каждой газете, его ценность сошла на нет. Большое количество подметных писем с „правдой о таком-то“ обесценит эти подметные письма. Чтобы уничтожить какую-то вещь, ее надо удвоить, утроить, удесятерить.
Уже сейчас „черные технологии“ в значительной мере обесценились. В крупных культурных центрах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск разброс „подметных писем“ уже не практикуется – пустая трата денег. Поэтому консультанты вынуждены придумывать другие способы работы с избирателями. Они вынуждены совершенствовать свое искусство. Раньше хорошим консультантом и специалистом по выборам мог быть любой, кто умел написать и донести до избирателя притягательную рекламную продукцию. Сейчас кампании делаются с помощью двух– и даже трех-ходовых комбинаций, есть несколько уровней воздействия и т. д. Если вы говорите о борьбе с „черными технологиями“, вы готовитесь к „прошлой войне“. Сами „черные“ технологии в прошлом. И типично „черные“ консультанты выборы проигрывают.
Кстати, этим решается еще одна проблема. Тут, в кулуарах, один человек говорил о „лицензировании“ политических консультантов. Вот предел тоталитарного мышления, которое, кстати, и держится на том, что пытаются навязать нечто противное человеческой природе (свободе), то есть пытаются реализовать невозможное. Если бабушка на кухне говорит дедушке: „Не голосуй за Ельцина“, – это можно уже рассматривать как политический консалтинг, так как она консультирует. Можно это запретить? Нет, нельзя. Тогда на каком основании мне кто-то запретит прийти к бизнесмену и сказать: „Поддержи деньгами такого-то политика, потому что тебе это даст то-то и то-то“. Кто будет лицензировать консультантов и по каким критериям? Скорее всего, это выродится во взяточничество или в монополию какой-либо касты, какого-то узкого круга людей.
Теперь о другом „невозможном“. Том самом, которое многие считают „невозможным“, а оно таковым не является. И гораздо правильнее было бы бросить все силы и деньги на реализацию этих вещей, а не пытаться сделать то, что сделать нельзя. Я имею в виду использование обмана (того самого, с которым связан прогресс человечества), об использовании видимости во благо, а не во зло.
Беда наших „перестройщиков“ во многом оттого, что они были и остаются „марксистами“. При всем своем антикоммунизме и Гайдар, и Явлинский, и Чубайс, и Немцов разделяют тезис о том, что „экономика первична“. Сугубо марксистский тезис. Неудача перестройки связана с недооценкой пропаганды. Наши „демократы“ стали таковыми именно благодаря западной пропаганде. Но сами недооценили это оружие. Во многом это связано со спецификой западной пропаганды, которая пропагандировала „общество потребления“, материальные ценности. Горбачев начал „перестройку“ из-за склонности к „красивой жизни“, а не потому, что ему были дороги „идеалы свободы“. Многие либералы писали свои антикоммунистические статьи, где главным аргументов была колбаса. Там она есть, а у нас – нет. Многие понимали свободу как „свободу торговать“. Материальная такая свобода. В одном фильме мне понравился монолог одного мужчины. Он смотрел на „новых русских“ и говорил: „Зачем вам свобода? Чтобы баб в ресторане за коленки щупать…“. Да, эта не та свобода, о которой мечтали, скажем, декабристы. Шли не смерть… Наша беда в том, что, как говорил Салтыков-Щедрин, „русский либерал до сих пор не определился, что ему больше хочется: конституции или севрюжины с хреном“.
А ведь если бы наши либералы были истинными либералами, то есть идеалистами, они, несомненно, не сделали бы главную ошибку: они бы не недооценили важность идеологии и сам характер этой идеологии.
Неужели нельзя было по всей стране открыть какие-то курсы бизнеса? По телевизору транслировать не боевики эти дурацкие, а, например, адвокатские сериалы. У нас была бы сейчас не страна бандитов, а страна сутяжников… 10 лет потеряно. А ведь за 10 лет можно всю страну поголовно грамоте обучить, не говоря уж про то, чтобы привить новую идеологию. Сколько времени понадобилось большевикам, чтобы дискредитировать патриархальную Россию? Всего 15 лет. За армию большевики взялись после 1905 года. За 10 лет они армию (лучшую в мире) превратили в сборище анархистов, в зверье, которое расстреливало элиту России – офицеров. При современных средствах массовой информации, при современных коммуникациях за 10 лет страну можно было изменить полностью. Привить любой менталитет, даже самый либеральный (если это нужно). Но никакой национальной идеологии у нас так и не появилось (в отличие от Японии, Германии или США периода депрессии и кризиса). Поэтому и не случилось „русского чуда“ (в отличие от японского).
Может быть, ошибка в том, что идеологию в России пытались найти в историческом прошлом: в культуре, славянофильстве, в православии и другом. Говорили о менталитете, памяти. Хотя понятно, что народная память чрезвычайно коротка. И русский человек начала века отличается от современного русского больше, чем сам современный русский от современного американца или японца. Идеология должна строиться, исходя из будущего.
Но это общие проблемы. Если же говорить о частностях, то политические консультанты могут оказать существенную помощь в решении самых злободневных вопросов. Я могу представить целую программу возрождения России. Берите и пользуйтесь. Кстати, так или иначе, по этому пути (пути создания идеологии и решения проблем через пропаганду) все возрождальщики России и пойдут.
Пример. Сейчас много говорят о необходимости инвестиций в экономику. Без инвестиций невозможна модернизация. Без модернизации Россия рискует отстать от Запада навсегда. Но на пути инвестиций стоит так называемая, нестабильность. Бизнесмены боятся коммунистов и „экономических кризисов“. Поэтому предпочитают вывозить капиталы за рубеж. Но ведь здесь действует логика самосбывающегося прогноза. Чем больше я боюсь коммунистов и кризисов (и, боясь их, вывожу капиталы), тем реальнее их угроза (потому что из-за вывоза капитала действительно наступает кризис, и к власти на волне кризиса придут коммунисты). Замкнутый круг. Его надо размыкать и закручивать в другую сторону.
Почему нельзя врать о стабильности, об успехах, о наметившемся экономическом росте? Не то что нельзя, это надо делать. Для чего иначе нужна статистика – древнейшая профессия?
Коммунисты? Я вообще не понимаю, почему так долго с ними церемонятся и считаются. Создается впечатление, что они кому-то нужны. У нас в стране 100 консалтинговых фирм. Дайте каждой по миллиону долларов и по одной области в „красном поясе“. Через полгода рейтинг Зюганова и коммунистов упадет в 2–3 раза. Если поставить такую задачу.
Если у нас в Госдуме коммунисты вместо 30 % получат 10 %, нам такие инвестиции с запада пойдут! А вы говорите – „идеология“! Да она может обеспечить рост экономики в 100 раз быстрее, чем экономика сама по себе.
Налоги? Очень насущная проблема. Ее надо решать и экономически, и юридически. В частности, конечно, необходимо снижение общего бремени. Но идеологическая составляющая может быть серьезной. Кроме „позитивной пропаганды“, показывающей, куда, сколько и как расходуется из уплаченных налогов, кроме подстегивания налогоплательщика к контролю за уплаченными налогами (чтобы он не считал их выброшенными на ветер), могут применяться и методы „негативной пропаганды“. Например, запугивание. Если каждый день показывать арестованных неплательщиков (Заметьте! Я говорю не „больше арестовывать“, хотя и это можно, я говорю о том, что хотя бы показывать), то через некоторое время у предпринимателя сложится впечатление, что идет „охота на ведьм“, что его обложили со всех сторон.
Преступность? Еще одна проблема, которая может быть существенно решена через виртуальные способы. В одном городе в целях предвыборной кампании один из кандидатов начал шумиху (только пустую шумиху) по поводу борьбы с наркотиками. Через две недели врач скорой помощи из этого города сказал мне: „Раньше из 10 вызовов 7 вызовов было на передоз. Сегодня – ни одного передоза“. А ведь это была только „предвыборная шумиха“, но она спасла десятки жизней. Она заставила наркомафию спрятаться, она взвинтила цены на наркоитики и сделала их недоступными большому количеству людей.
То же верно и в отношении любой преступности. Начните каждый день показывать по телевизору аресты. Пусть люди думают, что наконец-то власть арестовала верхушку всей мафии. Пусть, наконец, начнут доверять власти. Найдите, наконец, убийцу Листьева, Холодова, Меня и других. Наплевать, кто будет этот убийца. Пусть один раз пройдется перед кинокамерой в наручниках. Заплатить ему сотку, чтобы молчал. И все. Пусть народ увидит, что „убийцу поймали“. И успокоятся, и власть похвалят.
Дальше можно сказать, что за год число преступлений сократилось в 10 раз, а раскрываемость выросла на 25 %. Пусть люди думают, что жить стало спокойнее. А оно, кстати, так и будет. Потому что преступный мир труслив. Глядишь, разная шпана лишний раз „на дело“ не пойдет.
Вот какими вещами надо заниматься! А это называют „идеализмом“, „химерами“, „далекой, туманной перспективой“, „оторванностью от реальности“! На самом деле это „невозможное“, как раз возможно, желательно и необходимо. А всякое морализаторство, запреты, администрирование, возможно, покажутся более легким выходом, но они абсолютно неэффективны и приводят к прямо противоположному результату.
Вопросы из зала:
В. Андриянов – Уральский Государственный Университет, кафедра социологии, преподаватель.
– Если основной закон жизни, как Вы говорите, состоит в мобилизации всего и вся в период кризиса или для достижения цели, то не означает ли это, что Вы оправдываете убийство?
Ответ: Не оправдываю. Во-первых, частично ответ уже дан в тексте доклада. Убийство потому плохо (с точки зрения эффективности если рассуждать, и только), что оно неэффективно. Когда это поняли, когда поняли, что главное в человеке не его мясо, а его символические функции и символический капитал, – реальные убийства заменили виртуальными. Которые и служат уничтожению символического политика. И тогда цель, которая ставилась, достигается вернее. Гуманизация, которая здесь произошла, произошла из соображений эффективности, из технических соображений, а не благодаря морализаторству. Моральная проповедь звучит столько же тысячелетий, сколько существуют люди и убийства. Но эффекта было – ноль. Вся история – сплошные войны. А вот отсутствию мировых войн в последние 50 лет мы обязаны не всяким там болтунами-морализаторами, а атомной бомбе. Она – единственный защитник мира. Именно она превратила горячие войны в „холодные“, то бишь, в информационные, а значит, более гуманные. И именно информационную войну СССР и проиграл.
Глеб Кузнецов, фирма „Новоком“, советник президента.
– Все, что рассказывалось сейчас, очень интересно. Но нет ли противоречия между рассказом и функцией политического консультанта? Моралистика – это принятые правила игры. Это миф, в который верят. Политический консультант – это маг, человек, который создает мифы. На публике он должен либо молчать, либо придерживаться правил игры, то есть морализаторствовать. И только сами маги, в своем сообществе, знают о том, что они маги, что они управляют всеми процессами, что они создают мифы. Рассказывая все широкой публике, маг рубит сук, на котором сидит. Что это будет за общество, где все будут магами?
Ответ: Мне как раз очень хочется посмотреть на это общество. Поэтому я всеми силами его приближаю. Когда-то велись споры: а надо ли народ обучать грамоте? И что будет, если крестьяне все станут грамотными. Не шибко ли они будут умные и не погонят ли господ? В каком-то смысле так и получилось. Но это потому, что вообще отношения господства – рабства были неистинными. Просвещение меняет облик общества, но в итоге от его плодов выигрывают все. В то время, если бы я жил, я бы выступал за то, чтобы обучать народ грамоте. Сейчас я выступаю против каких-либо каст магов, которые знают „секреты кухни“. Пусть эти секреты знают все. Я не буду в них консервироваться, закисать. Я буду прогрессировать, буду придумывать новые секреты. Общество магов – это очень интересно. Пожить в нем мне кажется большим удовольствием, чем сомнительное удовольствие наслаждаться тем, что все вокруг дураки, а ты – маг.
В конце концов, я не дорожу своими занятиями в политическом консалтинге, не считаю, что только эти занятия делают меня тем, кто я есть. Я спокойно смогу жить и работать в обществе, где нет никаких выборов. Я найду способ сделать себя полезным. Я не сижу на том суку, который рублю.
Устроитель семинара:
– Очень жаль, что на семинаре возобладал дух прагматизма, мы это связываем с болезнью роста нашего консультантского сообщества. Когда мы придем к цивилизованному обществу, таких выступлений больше не будет. Наиболее передовые консультанты это уже осознали, а вот отсталые и начинающие – нет. Это просто еще дикое невежество. Время семинара подошло к концу, если докладчик хочет что-то сказать, то, пожалуйста, без микрофона и в кулуарах.
Ответ:
Закончился семинар полным триумфом „черных технологий“, весьма символичным и показательным для эволюции наших псевдо-либералов. Произносят пафосную речь о свободе, совести, морали и т. п… Когда же слышат то, что им не нравится псевдо-либералы в духе советских времен, как на партсобрании, которое приняло ненужный оборот, просто отключили микрофоны и предложили всем общаться в кулуарах.
К сожалению, все упреки в невежестве я вынужден переадресовать всем псевдолибералам. Конечно, жаль, что на восклицание „дурак!“ приходится отвечать „сам дурак!“, но если кто-то даст себе труд присмотреться не к полемической форме, а к содержанию и к аргументам, то я думаю, он их услышит.
Все обвинения, которые мне были предъявлены после доклада, зиждутся на следующей схеме: „Было варварство дикое и злое, а теперь общество движется к „цивилизованному состоянию“, которое образованное и хорошее“. Соответственно, все ранжируется по этой шкале. Внизу – дикий варварский народ, посредине – консультанты – полу-варвары. А наверху – наши великие „демократы“, которые уже давно живут в XXI веке, в „цивилизованном обществе“. Они стремятся подтащить остальных за собой».
Так вот, сама примитивность этой схемы (она умещается в один абзац текста, в полминуты рассуждений) наводит на мысль. Не правда ли подозрительно просто? Более того, я не верю, что история человечества, со всеми ее коллизиями, так просто устроена… Для мифа, идеологии это подходит. Для публицистики… да. Но если присмотреться к той же истории, если изучать ее по свидетельствам, а не публикациям в журналах (где, чаще всего, все подстраивается под заранее данную схему), то будет другая картина.
Псевдо-либералы и впрямь думают, что мы (такие как я) ничего не знаем о «цивилизованном обществе», что мы не были за границей, что мы не читали… Ну, кого?.. Скажем, Сороса, Поппера, Хайека…
А мы читали. Более того, я читал даже таких экзотических популяризаторов либерализма как, например, Фон Мизес.
Но самое главное, я читал отцов либерализма – Руссо, Джефферсона, Локка, Миля, Спенсера. Более того, я читал тех мыслителей, у которых либерализм достигает вершины – Канта, Фихте, Гегеля. Я читал современных защитников либерализма, причем, не популяризаторов, а серьезных философов – это Хабермас, это Роулз.
Сомневаюсь, что кто-то из оппонентов не то что читал и понял, но хотя бы слышал об этих авторах и знает их произведениях.
В том-то и дело, что не мы – отсталые, а они – продвинутые. А наоборот. Скорее, мы – представители XXI века. Это век виртуальной реальности, век новых возможностей, техники. Этот век не может описываться с помощью тех устаревших понятий, которыми пользуются наши псевдо-либералы. Если мы возьмем их высказывания, или возьмем какую-нибудь статью Гайдара, мы легко можем найти их прототипы (слово в слово) у каких-нибудь либеральных мыслителей России конца XIX – начала XX века. Какой-нибудь Собчак слово в слово повторяет какого-нибудь Милюкова. Они все триста лет талдычат одно и тоже. А корни уходят в XVIII век, в эпоху Просвещения.
Те, с кем я спорил сегодня, это не люди будущего, как они хотят себя представить, а люди, отставшие минимум лет на двести. Еще раз повторю, что они слово в слово повторяют то, что говорилось тогда.
Я же на стороне тех авторов, которые, с одной стороны, продолжают традиции либерализма и просвещения, с другой стороны, критикуют непродуманное в них. Эти мыслители ищут новых понятий для новой реальности. Технической и гуманитарной. Это Ж. Бодрийар, это Ж. Деррида, это Ф. Лаку-Лабар, это, кстати говоря, М. Хайдеггер.
Вот люди XXI века, более того, даже XXIII. И если бы мои оппоненты ознакомились с их трудами, мы бы могли говорить по существу. Мы могли бы обсудить, во что в современном мире превращаются такие понятия как «ответственность», «совесть», «этика» – вообще. Я ведь ни сколько не против этих понятий. Я только считаю, что, по сравнению с XVIII веком, они нуждаются в уточнении, и, прежде всего, для того, чтобы лучше работать.
Я бы с удовольствием, без всяких обзывательств с их стороны, послушал бы аргументы против того, что я говорил. Я бы хотел, чтобы мне доказали, что «запреты эффективны», что можно остановить «грязную рекламу», что дело в «несовершенствах законодательства».
Именно потому, что у людей нет аргументов и нет видения реальности, они, для защиты своих догматических схем (а догмы бывают не только коммунистические, но и либеральные), готовы пойти на все. Сегодня отключается микрофон у оппонента. Завтра (а это главная тема разговоров) – «запретить», «подвергнуть моральному осуждению», «внести поправки в законы», «ввести лицензирование и наблюдателей». А потом, глядь, дойдет и до убийств. Но, принимая во внимание нелюбовь наших псевдо-либералов ко всему виртуальному, надо полагать, что убийства будут реальными. Моралистика всегда была основой для самых жестоких режимов. Самым первым кровавым человеком в новой европейской истории был самый моральный – «неподкупный» Робеспьер.