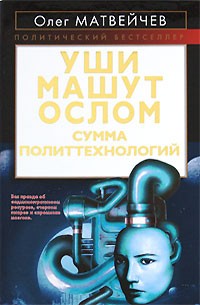Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Этот чудесный новый мир[16]
А. Б.: Давай поговорим, как Борхес с Бьоем Касаресом на темы, близкие к профессиональным, но в то же время остающиеся за скобками профессиональной деятельности. Ведь что-то ты думаешь, что-то переживаешь в глобальном плане, как-то со стороны смотришь на то, чем занимаешься, как-то это оцениваешь. Что такое вообще работа имиджмейкера? Коротко. А. Эйнштейн говорил, что ученый, который не может объяснить пятилетнему ребенку теорию относительности – шарлатан…
О. М.: А, кстати, знаешь, как Эйнштейн объяснял пятилетнему ребенку теорию относительности? Он сказал: «Вот смотри, по большой веточке ползет маленький червячок. Он маленький и веточку со стороны не видит. Веточка кривая, а червячку она кажется прямой. Так вот я – тот червячок, который понял, что веточка – кривая». Вообще, умение выходить из ситуации, смотреть на нее со стороны – это составная часть творчества, условие продуктивной работы над проблемой по ее изменению.
Что касается имиджмейкерства, то я – не имиджмейкер. Я не знаю, как работают имиджмейкеры, у меня нет сценических навыков. Это моя слабая сторона, и я компенсирую неумение работать с клиентом другими способами.
А. Б.: Возьми ситуацию и опиши, что в ней делает имиджмейкер, и что делаешь ты. А вот Минтусов и «Николо М» как-то произнес фразу, которая, можно сказать, в двух словах отражает работу имиджмейкера: «Даже если на улице идет дождь, мы должны сделать так. Чтобы это было выгодно кандидату».
О. М.: Ну, это не суть работы имиджмейкера, это суть работы пресс-секретаря или пиарщика. То есть некой кодирующей инстанции, которая переинтерпретирует все события вокруг в соответствие с кодом, с идеологией, имиджем кандидата или фирмы, оборачивает все себе на пользу. Причем в этой фразе мне не нравится ее пассивность. Дождь идет – а мы реагируем. Я предпочитаю, чтобы дождь шел, если я этого захочу, а если он идет «не вовремя», – значит, надо сделать так, чтобы никто об этом не знал. В крайнем случае, можно поступить и по вышеописанному рецепту. Кстати, в «Хвост виляет собакой», помнишь? Там тоже была придумана сценка для президента, где был нужен дождь. Пришлось запрашивать сводку погоды, и сажать самолет там, где был дождь. Вот это класс!
Что касается отличий имиджмейкера от консультанта, то я приведу пример другого рода. У меня клиент, крупный бизнесмен, владелец сети магазинов. Он пошел в политику, но фокус-группы показывали, что народ не хочет видеть в нем политика. Сколько бы он не выступал по текущим политическим вопросам, его продолжали воспринимать как владельца сети магазинов. Что бы сделал имиджмейкер? Он бы стал работать с имиджем. Психологические тренинги, пластика, постановка голоса, жестов. Он бы неделями вводил клиента в текущую политическую ситуацию, часами репетировал пресс-конференции. В конце концов, он бы сделал из человека профессионального политика. Я верю в это. Можно это сделать. Но, поскольку мне это не нравится, я плохо это умею делать, да и клиент был к этому, мягко говоря, не расположен, то его имиджем я, собственно, и не занимался.
Как я поступил? Я переформулировал контекст восприятия публики. Я не политик? А кто сказал, что это плохо? Это же хорошо! От политики все беды-то и идут! И клиент пошел на выборы с лозунгом: «Меньше политики – больше дела». Недостаток превратился в достоинство.
А. Б.: Это все равно имидж. Только ты его определяешь по-другому. Ты берешь его узко, как то, над чем работают стилисты, парикмахеры, специалисты по пластике, речи. Но имидж – это целостная вещь. Сюда же входит и профессия, и репутация, и «программа»… Хорошо. Давай я возьму еще одно определение работы имиджмейкера: «берем объект (кандидата или товар), выясняем его плюсы и минусы. Плюсы показываем, минусы прячем».
О. М.: Так рассуждают все дилетанты. Сейчас много развелось имиджмейкеров, потому что они думают, что все так просто. Так называемый имидж, еще раз повторю, дело сугубо творческое, он создается заранее, в каком-то смысле, или более точное философское слово – apriori. To есть, эмпирически, я, конечно, могу познакомиться с кандидатом, с товаром и до того, как я стал размышлять над имиджем (чаще так и бывает, сначала получают заказ), но в сущностной иерархии имидж идет впереди товара или кандидата. И не зависит от его «реальных свойств». Поясню на примере. Ты видел рекламу порошка «Лоск»? там пачка порошка, по-моему, превращается в симпатичного лисенка, или он оттуда высовывается. Такую рекламу невозможно сделать, если исходить из формулы: «Хорошее – показываем, плохое – прячем». Потому что в пачке порошка вообще нет лисенка – ни хорошего, ни плохого. Он понадобился, чтобы очеловечить имидж. Тут учитывается восприятие. Да, оно и в той формуле учитывается, ведь от восприятия зависит, что в товаре «хорошо», что «плохо», зависит от внешней среды. Поэтому все эти анекдоты про то, что «хомячок это та же крыса, просто у ней пиар лучше» – вредны, непрофессиональны и не соответствуют сути работы пиарщика.
Имидж – это целостная вещь. В свердловской области имиджмейкеры Чернецкого, мэра Екатеринбурга и кандидата в губернаторы области, сделали большую ошибку, когда стали работать по этой формуле. Пять лет они показывали кандидата Чернецкого «только с хорошей стороны». У них получился глянцевый плакат. Избиратели не знали о десятках сторон его жизни. Они не знали о том, что не показывалось. Этот вакуум каждый заполнял по своему желанию с помощью своей фантазии – в лучшем случае. Некоторые об этом не задумывались. Но когда началась борьба, соперник просто указал на эти стороны, просто задал вопросы, обратил внимание. И тогда народ начал интенсивно фантазировать. Ну, естественно, прогубернаторские СМИ стали подбрасывать дровишки в огонь этой фантазии. Совсем другое дело – имидж Росселя. Он – целостный. То есть люди знали и о его недостатках тоже. И они с ними смирились, научились жить.
Эта же ошибка и у пиарщиков Лужкова. Его тоже несколько лет делали глянцевым и плоским, оставляя за семью печатями «темные стороны». Его рейтинг рос. Но теперь на эти стороны соперник обратил внимание. И что? Больше всего люди ненавидят того, кого только что любили, кто обманул их стремление к совершенству. Рейтинг Лужкова пополз вниз. И уже не вернется. Все эти политики и их консультанты почем зря клеймят СМИ и тех, кто выпускает «компромат». А винить надо себя – не выставляйте человека с неприкрытым тылом. Если рассуждать в военных терминах, то дело выглядит так. Некий стратег сказал: «лучшие солдаты идут на фронт, а плохие – остаются в тылу». Наступали, одерживали победы. Авангард ушел вперед. А противник тихонечко подкрался и ударил о «худшим солдатам», в тыл. А потом окружил и лучшие части. Можно, конечно, говорить: «Ах, какой плохой, нечестный соперник!». Но я бы расстрелял генералов, которые допустили такие промашки и выбрали такую стратегию.
А. Б.: Вообще, военная терминология многое объясняет. Ты часто ей пользуешься?
О. М.: Для себя – постоянно. В детстве мы с братьями любили играть в «солдатиков», рисовали их на бумаге, раскрашивали и устраивали огромные сражения. Благодаря этому к четвертому – пятому классу я так увлекся историей, что прочитал все учебники, вплоть до десятого класса. Прочитал раз на пять. Я бы в военные пошел, если бы можно было сразу в маршалы…
А. Б.: Идеи всегда лень осуществлять. Конечно, можно всю жизнь положить на реализацию одной идеи и многого добиться. Это все равно, что придумать сюжет ролика, а потом сесть его и написать. Писать уже как бы не интересно. Борхес потому и писал рассказы. Хотя каждый его рассказ любой бездарный писатель мог бы расписать на целый ролик.
О. М.: Это верно. Одни должны выдумывать идеи, другие – их воплощать. Но у нас в стране какая-то диспропорция. Много придумщиков и мало воплотителей.
А. Б.: У нас же страна Кулибиных, всяких там рационализаторов и изобретателей.
О. М.: А в Америке наоборот. Представь себе им там деньги девать некуда. У них там нехватка идей и они за ними сюда ездят. Представь себе, что у них в банках кредитные отделы занимаются не тем, как клиенту отказать (как у нас), а сами ищут, куда можно инвестировать лишние деньги. Там есть всякие экзотические профессии, типа «консультант банка» по вопросам шоу-бизнеса. Сидит в Голливуде старичок с бородкой, который может за всю жизнь ни одного фильма не снял, но зато имеет репутацию, что он никогда не ошибается – будет тот или иной фильм рентабельным или нет. А к нему бегут разные банкиры с кучей денег и спрашивают совета, куда скорее их вложить, чтобы мертвым грузом не лежали. А он берет за консультации по 50 тыс. долларов в час.
А. Б.: Да, но у нас тоже такие стали появляться. Есть же у некоторых свободные деньги. Надо для них создать банк идей.
О. М.: Да, на любой вкус. В принципе – идея – самое главное. Ведь способ зарабатывания денег – инвариантный, схема одна и та же. Берем некий «X» – это товар, надо продать. Допустим, что отпускная цена оптовикам – 1 доллар за штуку. Другое условие – надо, чтобы этот «X» за 1 доллар (не так уж дорого) купило 100 миллионов человек (или 50 миллионов купило 2 раза). Надо найти «X», чтобы его себестоимость была… центов Еще 40 центов на рекламу. Получается, что из 100 миллионов планируемой выручки ты тратишь 50 миллионов на производство, 40 – на рекламу. Десять миллионов долларов – твои. Две проблемы только и существуют: найти товар, чтобы он отвечал всем условиям (себестоимость, цена и нужность по этой цене ста миллионам человек, если их предварительно обработать мощнейшей рекламой) и найти инвестора. На Западе с инвестором легче, равно как и с техническим решением товара и с дизайном. Если идея хороша, то люди с умом сразу видят, что можно неплохо заработать. У нас даже если люди видят, что идея стоит «миллион» долларов – ничего не могут поделать. Свободных денег мало.
А. Б.: Да и платежеспособных потребителей тоже. На сто миллионов человек не развернешься.
О. М.: Значит надо заставлять людей покупать что-то совсем дешевое. Потребитель – везде потребитель. У него есть потребности. И с помощью хорошей рекламы можно заставить человека купить даже самую ненужную ему вещь. Как у Веркора в романе «Квота или сторонники изобилия», парень заставлял людей покупать «нанизыватели жемчуга», «крошкособиратели». Причем «крошкособиратель» это была такая огромная машина, тяжелая и неудобная как танк, с грохотом она ездила по обеденному столу и собирала крошки. Особый шарм – если крошка попадалась крупная, она застревала и чадила, поэтому, во избежание эксцессов (так было в «руководстве по эксплуатации») перед запуском «крошкособирателя» все крошки на столе надо размельчить…
А. Б.: Эти машины называются рубголберг.
О. М.: На самом деле это доказывает, что товар-то как раз не важен. Идея не важна. Не надо исходить из потребностей. Потребность можно создать. Как раз технология воплощения идей – и есть самое трудное дело. Гуманитарные технологии – для промоушна, гуманитарные технологии для менеджмента, технологии для производства, энергосберегающие, ресурсосберегающие…
А. Б.: То есть у России нет будущего, в том смысле, что нет ниши, которую можно занять. Ведь такой нишей могла бы быть как раз торговля идеями…
О. М.: Это утопия, как видишь. Только торговля технологиями, гуманитарными или техническими. Проблема России сейчас в том, что она вообще не понимает, что ей надо занимать какую-то нишу. Я бы изобразил весь исторический процесс как гонку на длинную дистанцию, длинной в тысячелетия. Одни народы стартанули раньше, другие – позже. Но все бегут к одной цели – что-то типа «счастья». Это «счастье» каждый раз понимается по разному, и дорожка получается кривая, но «червячок» из метафоры Эйнштейна думает, что она прямая. Как правило, все ориентируются на лидера, и в целях и в средствах подражают ему. Бегут – бегут. До тех пор пока один не отстал. Причем, отстал окончательно. Он останавливается, садится на травку, «затягивает пояс» (у японцев была такая доктрина, перед тем, как они совершили рывок), потом смотрит по сторонам и думает: «А что я, дурак, бегу? Вон лошадь ходит. Приручу-ка я ее и на ней верхом». Уходит на это время. Бегуны оторвались уже далеко. И тут этот «последний» верхом на лошади берет и обгоняет всю команду. Они думают: «Вот это да! А ну, и мы также!». Тоже хватают лошадей, а те, раз, их и скидывают. Так они мучаются, думают: «Нет, уж лучше по старинке бежать, как в старые добрые времена, целее будем». Но другие соображают: «Раз тот смог, то и мы сможем», и приручают лошадь. И догоняют. А те, кто отстал навсегда, опять садятся на травку, думают и придумывают… автомобиль. И все начинается сначала. Сейчас мы добежали до спутников и других технических новшеств. И Россия сейчас стоит в положении «отставшей навсегда». Если мы будем копировать Запад, мы, во-первых, будем падать с лошади и всегда будут коммунисты, которые будут говорить: «Давайте по старинке», «нам это не годится», во-вторых, даже если мы их скопируем, мы можем их, максимум, догнать. Чтобы обогнать, надо создать что-то действительно абсолютно новое, чтобы вырваться вперед, чтобы стать лидером, которому все подражают, у которого все покупают новый способ решения проблем.
А. Б.: Из какой области может прийти это новое?
О. М.: Во-первых, из гуманитарной. Тут, видишь ли, может быть очень хитрая штука. Например, они все убежали вперед, а ты сидишь на травке. Но вместо того, чтобы догонять и что-то техническое придумывать, ты говоришь им, кричишь: «Вы бежите не туда! Сюда надо бежать! Ко мне на травку!». То есть ты не средства изобретаешь, а как бы новую цель. И таким вот хитрым способом из последнего становишься первым. Есть только «маленькая» трудность – убедить всех, что «новый образ жизни», который ты предлагаешь, – это и есть цель для всех, и что ты не выдаешь свою частную самобытность за всеобщее…
Во-вторых, технический путь всех догнать. Ну тут уж дело не в цели, а в средствах. В принципе, народ у нас достаточно изобретательный, как ты уже заметил сегодня. Вообще в 70–80-ых годах достаточно грамотно КПСС насаждала технократизм. Я не знаю, что там было с шестидесятниками. Может, для них главное было в Сталине, в Хрущеве, в демократии, капитализме. У нас это тоже вроде было. Но это прошло мимо меня. Официально, конечно, насаждался коммунизм кондовый, но он как-то не вредил, и ведь была мощная маргинальная струя, отдушина от официальной идеологии, устроенная самой же властью. Я имею в виду культ фантастики и всяких там приключений. В школе, когда я учился, у нас в библиотеку очереди стояли за фантастической литературой. Книг этих выпускалось море. Полстраны выписывало «Уральский следопыт» и играло в викторину. А какие тиражи были у «Вокруг света», и «Техники молодежи»? Огромные тиражи. Всякие там партийные «Под знаменем марксизма» и близко не стояли. А если и сопоставимые были цифры, то это не значит, что их читали. Всякие горкомы и обкомы выписывали и на полку ставили. А в этих «Вокруг света» и им подобных были фантастические романы, повести о XXI веке, о проблемах внеземных цивилизаций. Кроме того, просто всякие аномальные явления подогревали интерес:
НЛО, снежный человек, бермудский треугольник. Вся молодежь этим бредила. Кстати, куча литературы тогда переводилась тогда с иностранных языков. Во многих семьях, особенно, более или менее образованных все полки были заставлены фантастикой. Почитайте эти книги: вы найдете там не только технократическую, но и гуманитарную проблематику. Избитый вопрос – проблема контакта с внеземным разумом. Что инопланетянам сказать, чем похвастаться? Каковы законы разумной коммуникации?
Это проблемы во многом не политические и не этические. Или, скажем так, этика и политика там взяты в каких-то абсолютных параметрах, или же со многими технократическими вводными, то есть вне системы координат: «Сталин – демократия», «капитализм – совок» и т. д. Понимаешь, я могу читать и Довлатова и Астафьева, могу читать Бондарева и Солженицына, С. Михалкова и А. Зиновьева. Я их не противопоставляю. Я у всех вижу свою правду. Нет этих баррикад, проводимых между диссидентской литературой и «социалистическим реализмом». А такой жанр, как фантастика, особенно хорошая, вообще, умудрялся выходить за эти искусственные противопоставления, это более «высокая» точка зрения. Взгляд из будущего. И знаешь… мелкие неурядицы советской жизни как-то не лезли в глаза. Я читаю диссидентов. Они пишут злобно о советском быте. Но я же жил в это время. И не злил меня этот быт. Не зацикливался я на очередях за колбасой. У меня другая реальность была: космос, будущее, роботы, проблемы контакта, машина времени, антигравитация… и не только у меня, у всех, кто книги читал. А у нас, между прочим, была самая читающая страна в мире…