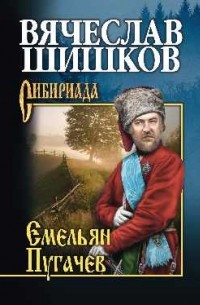Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
5
Пьяница рыжебородый Митька перед началом работ направился, по примеру прошлых лет, в церковь, чтоб подать священнику «трезвую записку» с зароком не прикасаться к вину до положенного времени.
Сначала он зашел в церковную сторожку, битком набитую такими же, как и он, бражниками. В унылых позах, с мутными глазами, стояли они перед седым дьячком, строчившим «трезвые записки». Когда очередь дошла до Митрия, дьячок спросил его:
– Сколько кладешь?
– Богу две копейки, тебе грошик.
– Маловато, чадо. По носу вижу, что ты питух горький, бесов возле тебя вьется, как возле меду мух. Клади богу три копейки, священнику две, мне копеечку.
Митрий согласился. Дьячок, пофыркивая носом, стал скрипеть гусиным пером по бумажке:
«Раб божий Димитрий зарекается пред престолом господним к вину не касаться до Михайлова дня, сиречь восьмого ноембврия, а ежели он, раб божий, зарок допрежь срока нарушит, да будут ему на том свете муки лютые».
Дьячок прочел, получил мзду, спросил:
– Ты, поди, неграмотный? Тогда становь вот здеся крестик.
После обедни все сто двадцать пьяниц слушали особый молебен о ниспослании винопивцам воздержания. Затем священник отобрал от каждого записки, подсунул их под престол и сказал:
– Кто напьется до положенного срока и не смоет сего греха покаянием, того ждут великие беды.
Все новые трезвенники вышли из церкви в глубоком унынии. Стиснув зубы и глядя в землю, они в озлобленном молчании расходились по домам.
Староста Лукич вскоре направился на постройку Мраморного дворца, чтобы пригласить работавшего там своего земляка Ваньку Пронина сложить артели русскую печку. На огромной постройке трудились главным образом рабочие Барышникова. Здесь было более четырехсот человек. Работами распоряжались приказчики да десятники, а главным командиром был смотритель Петр Петрович Рябчиков. Он когда-то служил при сенате старшим писчиком, хапнул крупную взятку со вдовы-помещицы, начальства не спросив и с начальством не поделясь, а поэтому и выгнан был со службы «за пьяные дебоши и предосудительное поведение». Вида он был свирепого: пучеглазый, лохматый, жилистый. Ходил руки назад, закусив зубами нижнюю губу. Чрез плечо – плеть. Он почти ежедневно пьян с утра, имел привычку пакостно ругаться, был также «ерзок на руку». К месту постройки приходил раза два в день, и тогда его сиплый от перепоя голос гремел не переставая, наводя на рабочих уныние и страх. Остальное время смотритель проводил по трактирам, иногда валялся пьяный где-нибудь в канаве.
Проходя мимо разговаривавшего с печником Прова Лукича, смотритель вытянул старика плетью. Лукич круто обернулся к обидчику, крикнул:
– Это за что же? А!..
Смотритель, потряхивая плетью, как ни в чем не бывало пошагал дальше, окруженный приказчиками. Они уже успели накляузничать ему на некоторых нерадивых, по их мнению, рабочих.
Подойдя к артели плотников, со всем старанием занятых своим делом, Рябчиков рявкнул:
– Который?
– А вот курносый, шея шарфом обмотана, – шепнул приказчик.
Смотритель взял курносого парня за шиворот и нанес несколько ударов плетью. Запуганный парень не посмел даже пикнуть.
День был субботний. В Петропавловской крепости, как раз через Неву, против постройки, куранты отбили шесть раз. По городу заблаговестили ко всенощной. Рабочие сняли шапки, покрестились и снова принялись за дело. Даже под праздник им льготного времени не было. А многим вот как хотелось сходить в церковь, душу отвести: послушать знаменитых певчих, поглазеть на народ, на благолепное служение.
Печник Ванька Пронин, разминавший на подмостках глину, сказал Прову Лукичу:
– Ты, отец, пройдись по набережной, а через часок-другой опять приходи. Эвон, видишь, возле забора палатка белеет да флачок метлисит, – ну-к об это место и приходи.
Лукич так и сделал. Погулял, полюбовался на зеркальную Неву, на рябики, на увенчанный архангелом золотой шпиц Петропавловской крепости, посмотрел, как сотни две солдат копрами сваи на Невской набережной бьют, наконец, пришел к палатке, что в углу строительного участка, и присел на штабель скобленых бревен.
У палатки стоял огромный, дубовый чан с железными обручами. Возле чана – высокий одноглазый человек с мочальной бороденкой, при фартуке и в черном картузе. Лукич с удивлением заметил: на вбитых по краям чана гвоздях висели рубахи, картузы, портки, сапоги, даже лапти, и прочий ношеный скарб. «Что такое?» – подумал он.
С воли, с площади скорым шагом приблизился к чану черномазый, с серьгой в ухе, малый и резким голосом крикнул одноглазому:
– Ведро!
Одноглазый почерпнул из чана ведро жидкости и перелил ее через воронку в две полуведерные фляги. Черномазый забил фляги деревянными с тряпкой втулками, запихал в мешок, взял мешок под мышку и ушел.
«Вареная вода, должно», – подумал Лукич и направился к одноглазому напиться.
– А ну, приятель, почерпни-ка водички мне, – сказал он, – угорел чегой-то я – знать, с селедок, страсть пить хочется.
– На сколько тебе? – спросил тот и подергал за протянутую меж кольями веревочку. Висевшие на ней оловянные посудинки в виде черпаков задрыгали, заплясали, как блестящие рыбки, – На копейку, на две, а вот эта – на три, в ней три глотка добрых.
– Да бог с тобой, – поднял Лукич голос, – да ведь ее вон сколько в Неве, водицы-то твоей…
Кривой всхохотнул бараньим голоском:
– С такой воды, браток, живо угоришь, и лапти вверх. Не вода это, а самая забористая сивуха. Хлебнешь – упадешь, вскочишь – опять захочешь.
– Ты лясы-то, вижу, мастер точить. Ярославец, что ли?
– Нет, мы московские, – ответил кривоглазый, поддев из чана трехкопеечным черпаком сивухи. Он понюхал ее и стал тихонечко выливать обратно, очевидно, пытаясь соблазнить старосту, – Эх, добро винцо! Барышниковское! Ведь я не от себя, а от господина подрядчика Барышникова. У него пять таких распивочных… У него, у Барышникова-то, мотри, в пяти местах стройка идет по Питенбурху, а в шестом – в Царском Селе – пруды он чистит. А вон тот парень, с серьгой в ухе, что ведро взял, этот от меня вразнос торгует.
– Так-так-так, – поддакивал Лукич и, указав на развешанное вокруг чана барахлишко, спросил: – А это что же?
– А это… Кое пропито, кое в залог сдадено. Вот за эти самые сапожнишки недопито восем посудинок трехкопеечных. Сегодня суббота, хозяин придет, бог даст, допьет.
Оказалось, что кривой арендует палатку у Барышникова за тысячу рублей и наживает, по его собственному признанию чистоганом рублей шестьсот.
– Куда ж тебе, грешный ты человек, этакую прорву денег? – сердито спросил кривого Пров Лукич.
– Хах, ты, – и одноглазый снова засмеялся бараньим голоском. – Ну и дед-всевед! Задом в гроб глядишь, а ума не нажил. Первым делом – избу я поставил себе новую на Васильевском острову, вторым делом – корову-удойницу да лошадок завел… Да вот графу Шереметеву платить надо, барину своему.
– Из крепостных, значит? Да ты бы выкупил себя на волю.
– Хах, ты, – опять хахнул кривой. – Он, брат, граф-то Шереметев, никому воли не дает, не-е-ет, брат! Многие его крепостные мужики в Питере да в Москве в купцах ходят, в ба-а-ль-шущих купцах! Взять моего соседа из нашей деревни Митрия Ивановича Пастухова – о-о-о, главный во всем Питере богач, самой первой гильдии купец и фабрикант великий! Он к графу-то, к Шереметеву-то, на четверке рысаков подъезжает, не как-нибудь. Во, брат, какие мужички есть! Это понимать надо, – и кривоглазый целовальник, захлебнувшись хвастливыми словами, вскинул палец вверх. – Уж он бы, Пастухов-то наш, мог бы на волю откупиться, он графу миллион сулил, да граф не отпущает. Вот каков граф-то Шереметев, барин-то наш!.. А ведь он, гляди, не гордый. Пастухова-то иным часом к обеду кличет… Призовет, а там уже целая застолица князьев, графьев да генералов. Ну, Митрий Иваныч обхождение знает, со всеми об ручку поздоровкается, сам в лучшем наряде, под бородой да на грудях медали со крестами; сидит в кресле честь честью, наравне со всеми пьет-ест. А граф подымается со стаканом в руках да и говорит: «Ну, господа, тепереча выпьем мы за моего мужичка, за Митрия Иваныча Пастухова, он мне миллион давал, чтобы я его на свободу выпустил, а я не хочу. Мне антиресно, – говорит, – что в крепостных у меня такие мужики. Ведь вот он, миллионщик, пожалуй, всех вас, господа, с потрохами купит, – а я, промежду прочим, могу его, как раба, сейчас же на конюшню отправить и порку дать».
– Да уж не врешь ли ты? – усомнился Пров Лукич. Он заинтересовался рассказом, стоял возле чана, расставив ноги и опершись подбородком на длинную палку с завитком.
– Тьфу ты! – рассердился целовальник, – Мне сам камердинер его сиятельства сказывал. А знаешь, сколько купец Пастухов платит Шереметеву оброку-то?
– Да, поди, тысяч с полсотни в год?
– Десять рублей всего! – закричал целовальник, и его большой кадык задвигался вверх-вниз по хрящеватому горлу, – Вровень со мной платит… Не берет больше граф! Понял ты это?
Вскоре ударил сигнальный колокол.
– Шабаш, шабаш! – раздавались всюду близкие и далекие выкрики.
К целовальнику подбежали два подростка.
– Что, пострелята, запозднились? – строго сказал целовальник. – Надевай скорей фартуки! – и, обратясь к Прову Лукичу, проговорил: – Это наследники мои, отцу помогать прибежали.
Толпы рабочих быстро расходились по домам. А человек с полсотни, перескакивая через котлованы, канавы, штабеля, мчались, как бешеные кони, к чану, чтобы занять поскорей очередь. Несколько позже набежали рабочие с чужих соседних строек.
– Налетай, налетай! – оживился целовальник, улыбаясь одним глазом. – Не все вдруг, по одному да почаще, по одному да почаще!
Прибежал и печник Ванька Пронин.
– Пров Лукич! Шагай скореича, – кричал он земляку. – Угощай, отец!.. Магарыч с тебя.
Лукич примостился с ним в очередь. Все, глотая слюну и держа в руках кто головку лука, кто кусок хлеба с селедкой, начали продвигаться к чудодейственному чану.
Длинный конопатый дядя принялся упрашивать хозяина отпустить ему два глоточка в долг. Целовальник замахал на него руками:
– Проваливай, проваливай!.. Ведь ты же заработок получил.
– Получил, да не пришлось мне ни хрена! Старик у меня умер, в деревню довелось послать денег-то. Да вот помянуть родителя-то, царство ему небесное, желательно.
– Сымай рубаху, – скомандовал конопатому хозяин. – Шевелись, копайся, в руки не давайся.
– Как же я голый по городу пойду? Без рубахи-то?
– Разувайся… Только сапожнишки твои гроша медного не стоят.
Влас стал, ругаясь, разуваться. Целовальник приказал сынишке перевязать сапоги лычком и повесить на вбитый в чан гвоздик.
Влас, не торгуясь и не спросив, какую цену целовальник кладет на сапоги, вместо двух глотков выпил с горя четыре трехкопеечных ковшика, по три хороших глотка каждый. Затем, шатаясь, отошел в сторонку, опустился на колени, стал усердно креститься на Петропавловский крепостной собор, бить земные поклоны и, пофыркивая носом, приговаривать:
– Упокой, господи, душеньку родителя моего Панфила… Эх, батька, батька…
А целовальник деловито кричал ему:
– Эй, богомолец! Рыжий! За сапожнишки твои тридцать копеек кладу, пропил ты двенадцать.
Влас только рукой махнул, а люди зашумели:
– Уж больно обижаешь ты народ, Исай Кузьмич… Худо-бедно – рублевку стоят сапоги-то. Они, почитай, новые.
Подошел лохматый мужичок-карапузик в рваной однорядке с длинными, не по росту, рукавами и в обмызганном, нескладном, как воронье гнездо, картузишке. Весь облик его – жалкий, приниженный, виноватый. Он поднял на долговязого целовальника свое изможденное, с козьей бородкой и редкими усиками лицо, подморгнул и прошептал стыдливо:
– Пять чепурушек трехкопеечных, Исай Кузьмич… На, получи! – И он сунул ему горстку медяков.
Целовальник особым, среднего размера, ковшиком поддел порцию пойла и подал карапузику. Тот вздохнул, перекрестился и жадно прильнул к ковшу губами. Целовальник крикнул:
– Пей над чаном! Сколько разов вам толковать! А то наземь текет добро-то.
– Ладно, – просипел мужичок, послушно перегнулся над чаном и с наслаждением, закрыв глаза и причмокивая, принялся тянуть из ковшика. Вино, омывая усики, бороденку, подбородок, покапывало в чан.
И вдруг, когда уже в ковше засверкало донышко, грязный засаленный картуз сорвался с головы питуха, шлепнулся в чан, как большая утка в озеро, и утонул.
– Ах ты, сволочь! – зашумел целовальник. – Четыре копейки штрафу с тебя.
Все захохотали. Парень с веселыми глазами крикнул:
– Пошто он утонул-то? Чугунный, что ли, у тя картуз-то?
– Трубка в нем цыганская, – засипел испугавшийся карапузик, утирая мокрый рот подолом рубахи. – В кулак ростом трубка-то, глиняная.
Выудив со дна утопленные вещи, целовальник забросил трубку в репей, а набухший вином картузище принялся, ради пущей экономии, выжимать, выкручивать над чаном, как прачка белье. Выжав почти досуха, целовальник со всей силы хлестнул мужичка картузом по щеке.
К чану неожиданно подошел с воли все тот же широкоплечий малый с серьгой в ухе и, как в первый раз, резко отрубил, словно в медную доску булатным молотом ударил:
– Ведро!
В стороне стояли двое беспоясных, подававших прошлое воскресенье священнику «трезвые записки». Они впились взорами в тех, что глотали водку, и то и дело густо сплевывали, скоргоча зубами; на их напряженных лицах холодная испарина.
Один, не выдержав, ткнул себя кулаком в грудь пониже бороды, хрипло закричал:
– Зарок, так твою! Заррок!.. – и быстро пошагал прочь. По дороге он сгреб камнище и, выпучив глаза, швырнул его в пробегавшую собаку.
– Заррок!..
Другой из зарочных, с печалью посмотрев приятелю вслед, остался на месте. Вся душа его, видимо, стремилась к чану, но упрямые ноги будто вросли в грунт; посмеиваясь, люди говорили в его сторону:
– Мученик! А ведь все одно нарушит… Днем раньше, днем позже – обязательно обманет бога-то.