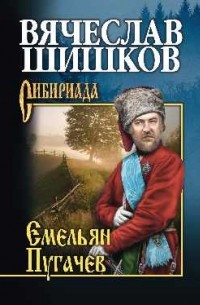Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
2
День был праздничный, солнечный. Возле Синего моста любопытства ради чинят променад петербургские щеголи: канцеляристы из коллегий, стряпчие, молодые офицеры, приказчики-гостинодворцы, заезжие помещики с женами и прочий праздный люд.
У Синего моста стоят шеренгой желающие наняться в услужение: толстобрюхие, румяные повара при фартуках и в белых колпаках, конюхи в безрукавках и начищенных сапогах, бородатые дворники с метлами. Вот отдельная группа чисто одетых, подтянутых, бритых, припудренных молодцов. Это – лакеи. Они нагло и презрительно посматривают на проходящих скромных барынек, но пред светскими господами, подъезжающими на рысаках, вытягиваются в струнку, отвешивают манерные поклоны, придавая своим лицам рабски покорное выражение.
– Послушай, как тебя… Выйди! – манит мизинцем, вылезши из кабриолета, знатный барин.
Лакей стремительно вырывается вперед, останавливается – руки по швам – перед господином, чуть набок склоняет голову, весь превращается во внимание. Слух его ловит несколько небрежно брошенных вопросов:
– Сколько лет? Где служил? Как звать? Почему меняешь службу? Есть ли рекомендации? Вольный или крепостной?
Не повышая голос, стараясь придать фразам особую заученную интонацию и выразительность, отчетливо и внятно лакей отвечает господину. Тот оглядывает с головы до ног стройную, рослую фигуру молодца, красивое лицо его с быстрыми, смышлеными глазами. «Человек» ему нравится.
– Грамотен ли ты, Жан?
– Да, ваше сиятельство. Читаю книги, романы, почерк в письме имею добрый. В случае семейного торжества могу составить пиитическое приветствие. При досуге исполняю на скрипице заунывные и веселые пиесы.
– Давно ли из деревни, Жан?
– Седьмой год, ваше сиятельство. Прямо от сохи. Грамоте обучался самоуком, при досуге…
Барин немало дивится способностям своего лакея, говорит ему:
– Сегодня же обратись в мою контору… Знаешь? Там тебе объявят условия и зачислят в штат.
– Мерси бьен, ваше сиятельство, – И Жан – или, как он числился по паспорту, крепостной помещика Трегубова, Иван Пряников, – одернув фрак и набекренив поярковую шляпу, пошагал к месту своего нового служения.
В другой части города, на Никольском мосту, стояли старые и молодые няньки и кухарки, в повойниках, платочках, чепчиках. За ними – живописная шеренга рослых, полнотелых кормилиц. Они в цветастых сарафанах, в тончайшего полотна белейших сорочках с пышными рукавами и в высоких кокошниках, чрез шею – связки бус. У некоторых на руках младенцы.
Малокровные петербургские барыньки в сопровождении лакеев или горничных, с пренебрежением проходя мимо низкорослых, щупленьких кормилиц, направляются то к одной, то к другой краснощекой, дородной женщине. Они просят кормилиц расстегнуть сорочку, пристально осматривают груди, щупают их, желая определить, достаточно ли туги, избыточно ли могут дать молока.
Сухопарая, в седых локонах, старуха, за которой лакей бережно таскает на руках жирного мопса с прикушенным кончиком языка, осмотрев молодую женщину, сказала ей:
– Я тебя, голубушка, пожалуй, возьму. Я беру мамку для своей дочки, адмиральши, – ей бог даровал сына-первенца. Скажи, ты крепостная али вольная? И кто твой муж? И как тебя зовут?
– Зовут меня Татьяной. А мужа у меня нету, барыня. Я вдова. Да я вам опосля расскажу, вы будьте без сумления, – стыдливо опустила Татьяна синие, под темными ресницами глаза. Ей и впрямь совестно было рассказывать о себе чужой барыне.
Жизнь молодой Татьяны сложилась так. Ее, сироту, девчонкой купил за семь рублей забулдыжный офицерик из мелкопоместных дворян, некто Вахромеев. Был он пьяница и картежник, жил на Литейной, в квартире из трех маленьких комнат. Сам занимал две комнаты, а в темной, выходящей окном в стену, жили три молодые купленные им девушки. Новую, Татьяну, поселил он в каморке под лестницей. Девушки ежедневно уходили к мастерице-швее, с утра до ночи обучались шитью и вышиванию гладью. Стала к швее ходить и Татьяна. Из рассказов старого солдата, коротавшего жалкую жизнь в кухне и бесплатно работавшего на офицера в должности денщика, стряпухи, няньки и прачки, Татьяна узнала, что офицер за пять лет скупил до тридцати молоденьких девчонок. Он обучал их какому-нибудь ремеслу, а когда они входили в возраст, развращал их; красивых иногда сдавал выгодно в аренду на месяц, на два своим холостякам-сослуживцам, затем перепродавал девушек с большим барышом в качестве домашних портних, кастелянш или горничных, а на их место приобретал за гроши новых. Он кормил своих рабынь скудно, одевал плохо, потому девушки волей-неволей должны были тайком от господина снискивать себе пропитание. Вечерами они заглядывали в кабачки или на купеческую пристань с целью подработать деньжонок своими прелестями. По словам денщика, одна из девушек года три тому назад заболела дурной болезнью и заживо сгнила, другая от тоски повесилась, третья бросилась в Неву, но была спасена. Офицеру все это сходило с рук.
Был случай при Татьяне. Пришли к офицеру три торговца коврами, три чернобородых перса, ради покупки девушек на вывоз в Персию. Показывая товар лицом, офицер велел трем девушкам раздеться. Персы пришли от молодых красоток в восхищение и, не жалея денег, купили их по триста рублей за душу – цена по тому времени необычайно высокая. Так как закон воспрещал продавать живой товар на вывоз за пределы государства, то офицеру Вахромееву пришлось в обиход закона, по совету стряпчего, составить с персами официальное договорное условие, по которому хозяин отдавал девушек якобы в обучение ковровому мастерству сроком на двадцать лет каждую.
Девушки, с отчаяния, что их вскорости увезут невесть куда – на чужбину, предались столь неутешному рыданию, что на их вопли сбежался со всего квартала народ.
– На расправу! Офицера на расправу! Персюков на расправу! Бей их! – шумел, осведомившись о причине девичьего горя, народ. В окна квартиры Вахромеева полетели камни.
Явившийся наряд полиции, установив, что сделка совершена на законном основании, нагайками разогнал толпу. Защиты и спасения проданным девушкам не было.
Войдя в возраст, Татьяна стала любовницей офицера. Она ненавидела своего тирана, но, чтобы избавиться от постыдной жизни, у нее было только два пути: побег или самоубийство. Но бежать – это значит быть пойманной, наказанной кнутом и снова водворенной к господину. Оставалась смерть! Умирать Татьяне не хотелось. Она неустанно молила бога, чтоб лиходей скорей продал ее в какое-либо семейство. Но Вахромеев привязался к ней и не желал с ней расставаться. Она забеременела от него и родила.
Однако настал конец. Офицер проиграл в карты казенные деньги, его пришли арестовать; он схватил пистолет и застрелился. Что же после этого произошло с Татьяной? Нашлись добрые люди, которые помогли ей стать вольной. Дело разбиралось в одном из столов юстиц-коллегии. Дознано было, что самоубийца не имеет наследников, кроме новорожденного сына, мать которого, Татьяна Пирогова, крепостная самоубийцы, после судебного разбирательства объявлена вольной.
Через неделю ребенок умер, и вот Татьяна решила попытать счастья в кормилицах.
Пока барынька осматривала молодую женщину, вся недолгая жизнь промелькнула в ее сознании, как тяжелый сон. Ей едва минуло девятнадцать лет, но глаза ее задумчивы и скорбны. Только одно тяжелое видела она в жизни и на собственном опыте убедилась, что каждый человек имеет свою страшную судьбу, исполненную несчастий. «Пройди сквозь всю землю, ни единого человека не сыщешь счастливого», – говаривал, бывало, девушкам мудрый старый денщик офицера-самоубийцы.
Все это пришло Татьяне как-то вдруг, и такое смятение охватило ее душу, что она почти ничего не слыхала, о чем расспрашивала ее барыня.
– Три рубля в месяц будешь получать на всем готовом. Согласна ли?
– Согласна, – ответила Татьяна и, всхлипнув, заплакала.
– Идем. Кормилицам плакать нельзя, молоко прогоркнет. Садись на дрожки, милая… Степка, пошел!
Шестидесятилетний беззубый Степка зачмокал, задергал вожжами. Дрожки двинулись, затарахтели, увозя свободную Татьяну из плена в плен.