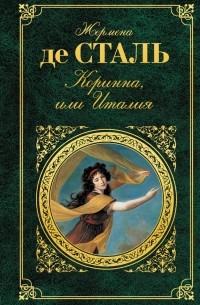Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава третья
24 января 1795 года
Вы отказываетесь меня видеть; вас оскорбил наш разговор третьего дня; наверное, вы решили никого не принимать, кроме своих соотечественников: очевидно, вы хотите загладить ошибку, которую совершили, допустив к себе иностранца. Однако я не только не раскаиваюсь, что откровенно высказал свое мнение об итальянках, и высказал его вам, той, кого я в своих несбыточных мечтах воображал себе англичанкой, но с еще большей твердостью осмеливаюсь вас уверить, что вы не найдете ни счастья, ни почетного положения в обществе, если изберете себе мужа из числа тех, кто вас окружает. Среди итальянцев я не знаю никого, кто был бы достоин вашей руки, никого, кто принес бы вам честь, женившись на вас, какие бы громкие титулы ни сложил он к вашим ногам. Мужчины в Италии гораздо хуже, чем женщины. Наделенные всеми женскими слабостями, они сверх того обладают еще своими собственными. Неужели вы сможете убедить меня в том, что уроженцы Юга, которые так старательно избегают огорчений и думают об одних лишь удовольствиях, способны любить? Не от вас ли я слышал, что месяц назад вы встретили в театре человека, за неделю до этого похоронившего свою жену, к тому же любимую жену, по его собственному признанию? Здесь спешат отделаться от мысли о покойниках и о том, что существует смерть. Священники с такой же невозмутимостью совершают погребальный обряд, с какой cavaliere servente выполняет правила любовного этикета. Все рассчитано заранее в этом привычном ритуале, в нем нет места ни для страданий, ни для восторгов любви. Наконец, и это особенно губительно для любви, ваши мужчины не вызывают уважения у женщин. Бесхарактерные, не знающие серьезных занятий в жизни, они немногого стоят в глазах женщин, у которых находятся в полном подчинении. Для того чтобы законы природы и общественного порядка обнаружили себя в полном блеске, мужчина должен сознавать себя покровителем женщины, должен, охраняя ее, боготворить в ней то слабое существо, которое он охраняет, поклоняться ей как божеству, не имеющему власти, но приносящему счастье своему дому, подобно благим пенатам. Пожалуй, можно сказать, что в Италии женщина царит, подобно султану, и мужчины там составляют ее сераль.
Ваши мужчины отличаются гибким и податливым нравом, свойственным женщинам. Итальянская поговорка гласит: «Кто не умеет притворяться, тот не умеет жить». Не правда ли, и это чисто женская поговорка? В самом деле, как может мужчина воспитать в себе твердость духа и достоинство, если он живет в стране, где ему недоступна военная карьера, где нет свободных политических учреждений? Вот почему итальянцы направляют все силы своего ума на то, чтобы ловко устраивать свои дела; жизнь для них как бы партия в шахматы, где выигрыш – это все. От античности у них осталось лишь пристрастие к пышным фразам и к внешнему великолепию; но рядом с этим беспочвенным величием вы непрестанно наталкиваетесь на грубейшую безвкусицу и на самое постыдное неряшество в домашнем быту. Почему же, Коринна, этому народу вы отдаете предпочтение перед всеми другими? Неужели вам так нужны бурные рукоплескания итальянцев, что всякая иная судьба без этих оглушительных «браво» представляется вам бесцветной и скучной? Но кто может надеяться, что сделает вас счастливой, исторгнув вас из этой суеты? Вы непостижимая женщина, Коринна! Глубоко чувствующая, но с нетребовательными вкусами; независимая, наделенная гордой душой, но рабски приверженная к развлечениям; способная любить одного, но нуждающаяся во всех. Вы чародейка, которая то приводит в трепет, то успокаивает; порой вы недосягаемы, а то вдруг нисходите с высот, где безраздельно царите, чтобы смешаться с толпой. Коринна, Коринна, как не страшиться тому, кто вас полюбит?
Читая это письмо, проникнутое неприязнью и предубеждением против ее народа, Коринна почувствовала себя оскорбленной. Но к счастью, она поняла, что Освальд был до крайности раздосадован и балом, и тем, что она отказалась принять его после разговора за ужином: эта мысль несколько смягчила тягостное впечатление, произведенное на нее письмом. Она колебалась некоторое время – по крайней мере ей казалось, что она колеблется, – раздумывая о том, как повести себя дальше. Чувство влекло ее увидеться с ним, но ее угнетала мысль, что он сможет вообразить, будто она хочет, чтобы он женился на ней, хотя ни по своему состоянию, ни по происхождению – ей стоило лишь открыть ему свое имя – она ни в чем не уступала лорду Нельвилю. К тому же при том особом, независимом образе жизни, какой избрала себе Коринна, она не склонна была выйти замуж и, конечно, отогнала бы от себя эту мысль, если бы, охваченная страстью к Освальду, не позабыла о том, сколько горя ей может принести союз с англичанином и необходимость покинуть Италию.
Ради любви можно поступиться своей гордостью; но едва лишь условности и расчеты света станут на пути у влюбленных, едва лишь появится подозрение, что тот, кого любишь, принесет себя в жертву, соединившись с тобой, как сразу исчезнет возможность свободно выражать свои чувства к нему. У Коринны не хватало духу порвать с Освальдом, но она уверила себя, что сможет видеться с ним, затаив от него свою любовь; с этим намерением она решила написать ему письмо и ответить лишь на его несправедливые обвинения против итальянского народа, ничего больше не касаясь, словно ее только это и занимало. Пожалуй, для выдающейся женщины нет иного способа вновь обрести душевное равновесие и чувство собственного достоинства, как укрыться в область мысли.
25 января 1795 года
Если бы ваше письмо касалось только меня, то, право, я не стала бы оправдываться перед вами: мой характер так легко разгадать, что кто сам не в состоянии понять меня, не поймет, даже если бы я стала давать ему пояснения. Добродетельная сдержанность англичанок, тонкая любезность француженок помогает им, поверьте мне, скрывать добрую половину того, что происходит у них в душе. Но то, что вам было угодно назвать во мне чародейством, всего лишь естественная непринужденность, которая позволяет порой обнаружить разнородные чувства и противоречивые мысли, не пытаясь привести их в согласие, ибо, если и существует подобное согласие, оно всегда бывает искусственным, а правдивые натуры большей частью не бывают последовательны; однако я хочу говорить с вами не о себе, а о том несчастном народе, на который вы с таким гневом обрушились. Уж не моя ли привязанность к друзьям вызвала в вас такую недоброжелательность к итальянцам? Но вы слишком хорошо меня знаете, чтобы ревновать к ним, а я не отличаюсь таким самомнением, чтобы подумать, будто ревность вас сделала столь несправедливым. Вы рассуждаете об итальянцах точно так же, как все иностранцы, которые замечают лишь то, что сразу бросается в глаза; но, чтобы верно судить о стране, проявившей столько величия в разные эпохи, надо уметь видеть дальше и глубже. Чем объяснить, что во времена господства древнего Рима наш народ был самым воинственным на земле, в эпоху средневековых республик – самым рьяным поборником гражданских свобод, а в шестнадцатом веке славился на весь мир своими науками, литературой, искусством? Не блистал ли этот народ славой во всех видах человеческой деятельности? И если теперь эта слава померкла, не виной ли тому политическое положение нашей страны, ибо при других обстоятельствах итальянский народ был бы совсем не таким, каков он сейчас.
Не знаю, может быть, я не права, но прегрешения итальянцев вызывают во мне лишь сочувствие к их судьбе. Чужеземцы издавна вторгались в Италию и раздирали на части эту прекрасную страну – предмет их постоянных властолюбивых вожделений; и они же горько попрекают итальянцев недостатками, присущими всем побежденным и поверженным народам! Европа, получившая от нас науки и искусства, обратила против нас эти дары и еще оспаривает у нас единственную славу, доступную народу, лишенному воинской мощи и политической свободы, – славу на поприще наук и искусств.
Не подлежит сомнению, что образ правления влияет на характер народов, и в самой Италии можно увидеть удивительное различие в нравах различных государств, которые ее составляют. Пьемонтцы, образующие ядро нации, наиболее воинственны; флорентийцы, знавшие, что такое свобода и терпимость правителей, выделяются своей просвещенностью и душевною мягкостью; венецианцы и генуэзцы отличаются способностью к усвоению политических учений, ибо имеют аристократию, проникнутую республиканским духом; миланцы более искренни, чем остальные итальянцы, ибо народы Севера испокон веков привили им эту черту; неаполитанцы могли бы стать храбрыми воинами, потому что у них столько веков было хоть и несовершенное, но свое собственное правительство. А римская знать, лишенная возможности проявить себя на военном и политическом поприще, неизбежно становилась ленивой и невежественной; но духовенство, перед которым открыта широкая дорога и которое занято серьезной деятельностью, неизмеримо более развито умственно, чем аристократия; папская власть не признает никаких привилегий, связанных с происхождением, и утверждает принцип выборности духовенства – отсюда и проистекает своего рода либерализм если не в идеях, то в нравах, что делает пребывание в Риме приятным для тех, у кого уже нет ни честолюбивых стремлений, ни возможности играть роль в обществе.
Народы Юга легче меняются под воздействием государственных учреждений, чем народы Севера; в характере у них есть беспечность, которая скоро превращается в полную покорность судьбе; к тому же природа дает им столько наслаждений, что они без труда утешаются, когда общество отказывает им в известных преимуществах. Конечно, и в Италии велика испорченность нравов, и сама цивилизация там гораздо менее утонченна, чем в других странах. В итальянском народе можно найти еще нечто дикое, несмотря на присущую ему хитрость, которая напоминает хитрость охотника, умело подстерегающего добычу. Беспечные народы склонны к лукавству: они умеют под мягкой улыбкой таить даже гнев, когда им это нужно; такая привычная маска позволяет легко скрывать свое бедственное положение.
В частной жизни итальянцы обычно искренни и верны. Вопросы выгоды и честолюбия имеют над ними большую власть, но соображения гордости и пустого тщеславия – ни малейшей; различия в рангах у них играют лишь незначительную роль; у них нет ни светского общества, ни салонов, ни мод, ни постоянной потребности производить эффект, даже в мелочах. У итальянцев отсутствуют эти вечные источники притворства и зависти: они обманывают своих недругов и соперников, когда находятся с ними в состоянии войны, но в мирное время естественны и правдивы. Вот эта правдивость и способствует вольности нравов, которую вы так порицаете; слушая постоянно объяснения в любви, живя в обстановке стольких любовных соблазнов, женщины уже не прячут своих чувств и вносят, если можно так выразиться, в распущенность оттенок невинности; они совсем не думают о том, что могут показаться смешными, особенно в обществе. Иные из них столь невежественны, что не умеют подписаться и во всеуслышание признаются в этом; они заставляют своих стряпчих (il paglietto) отвечать на записки, полученные ими утром, и эти ответы пишутся на бумаге большого формата и в стиле судебных ходатайств. Но зато среди образованных женщин вы встретите профессоров академий, которые читают публичные лекции, перекинув через плечо черный шарф; и если вы вздумаете над ними смеяться, вас спросят: «Что дурного в том, если женщина знает греческий язык? Что дурного в том, если она своим трудом зарабатывает себе на хлеб? Почему вы смеетесь над такими простыми вещами?»
Наконец, милорд, я собираюсь затронуть очень щекотливый вопрос: чем объяснить, что наши мужчины так редко проявляют воинственный пыл? Они легко подвергают опасности свою жизнь, когда вступает в свои права любовь или ненависть, и удары кинжала, нанесенные или полученные в таком деле, никого не удивляют и никого не страшат; воспламененные истинной страстью, итальянцы ничуть не боятся смерти: они презирают ее. Но часто бывает и так, и это следует признать, что жизнью своей они дорожат больше, чем политикой, которая их мало волнует, ибо у них нет отечества. К тому же понятия рыцарской чести обычно не слишком в почете у народа, не имеющего общественного мнения. Немудрено, что при таком упадке общественной жизни женщины пользуются большим влиянием, быть может чрезмерным, и поэтому не могут уважать мужчин и восхищаться ими. Тем не менее мужчины у нас относятся к женщинам с нежностью и преданностью. Семейные добродетели составляют гордость и счастье женщины в Англии; но если есть такие страны, где существует любовь вне священных уз брака, Италии среди них принадлежит первое место, ибо нигде не стараются так беречь счастье женщины. Мужчины здесь создали своего рода мораль для отношений вне морали, но, по крайней мере, они справедливы и великодушны в распределении взаимных обязательств; когда порываются любовные связи, мужчины сами считают, что скорее за это в ответе они, ибо женщины большим пожертвовали и больше потеряли; перед судилищем сердца, говорят у нас, большую ответственность несет тот, кто причинил больше страданий другому. Если мужчина виновен, значит, он жесток, если женщина виновна, значит, она слаба. Общество, развращенное и в то же время нетерпимое, следовательно, безжалостное к ошибкам, имеющим гибельные последствия, всегда более сурово к женщине; однако в странах, где не существует общества, в суждениях людей преобладает природная доброта.
Уважение к человеческому достоинству менее развито и, быть может, даже менее известно в Италии, нежели в других странах, не спорю; но причину этого опять-таки следует искать в отсутствии того же общества и общественного мнения. Однако наперекор всем басням о вероломстве итальянцев я утверждаю, что нигде в мире нельзя найти столько добродушных людей, как среди них. Этим добродушием проникнуто даже тщеславие, и, хотя иностранцы говорят много дурного о нашей стране, нигде их не встречают с большим радушием. Итальянцев обвиняют в излишней склонности к льстивым речам; но надобно также признать, что они расточают приятные слова чаще всего без всякого расчета – просто из желания нравиться, из искренней потребности быть любезными, и эти слова отнюдь не противоречат их поведению. Однако способны ли они сохранить верность в дружбе в исключительных обстоятельствах, когда надобно подвергать себя опасностям или бросить смелый вызов врагам? Я согласна, что на это способны лишь немногие; но подобное наблюдение можно сделать не только в Италии.
В повседневной жизни итальянцы отличаются чисто восточной ленью; но нет людей более настойчивых и энергичных, когда воспламеняются их чувства. А женщины, которые зачастую напоминают апатичных одалисок в серале, внезапно оказываются способными на подвиги самоотвержения. В характере и силе воображения итальянцев есть много таинственного: то они поражают неожиданными проявлениями великодушия и беззаветной преданности в дружбе, то пугают мрачным духом ненависти и мстительности. В Италии совершенно не развито соперничество: жизнь под этим прекрасным небом походит на сладостный сон; но дайте этим людям цель, и вы увидите, как они за полгода все познают, все постигнут. С женщинами произойдет то же самое: зачем им учиться, если большая часть мужчин их не поймет? чем образованнее будет ум женщины, тем более одиноким будет ее сердце; но в какой короткий срок эта женщина может стать достойной выдающегося человека, если только она полюбит его! Здесь все погружено в сон; но в стране, где подавлены высокие интересы, покой и беспечность заключают в себе более благородства, чем пустая суета из-за пустяков.
Там, где мысль не черпает силу в важной и разнообразной жизненной деятельности, увядают изящные искусства и литература. Однако же, где они вызывают больший восторг, чем в Италии? Из истории мы знаем, что папы, государи, весь наш народ во все времена воздавали блестящие почести художникам, поэтам, замечательным писателям. Подобное преклонение перед талантами, признаюсь вам, милорд, является главной причиной моей привязанности к этой стране. Здесь вы не встретите людей с пресыщенным воображением, людей, чей насмешливый ум убивает в вас веру в себя, не найдете и деспотической посредственности, которая в других местах так беспощадно мучит и душит таланты. Верная мысль, живое чувство, удачное выражение – все это разгорается ярким пламенем, едва лишь коснется уха слушателей. Талант возбуждает в Италии сильную зависть уже потому, что он занимает здесь первое место. Перголезе был убит из-за своей «Stabat»; Джорджоне облекался в кирасу всякий раз, когда бывал вынужден рисовать на глазах у толпы; одним словом, зависть, которую в других странах порождает власть, у нас вызывает талант; подобного рода зависть не принижает художника; она может его ненавидеть, гнать, убивать, и все же, охваченная фанатическим восторгом, зависть, и преследуя гения, побуждает его ко все большему совершенству. Наконец, когда видишь, сколько жизни таится в этом стесненном кругу, ограниченном столькими помехами и запретами, нельзя не принять, как мне кажется, горячего участия в этом народе, столь жадно вдыхающем воздух, который, благодаря искусству, проникает сквозь замкнутые границы его существования.
Эти границы, я не отрицаю этого, приостановили развитие у итальянцев того чувства собственного достоинства и той гордости, которые отличают представителей свободных и воинственных наций. В угоду вам, милорд, я охотно соглашусь, что люди с подобным характером скорее способны внушить женщинам восторженную любовь к себе. Но ведь можно также допустить и то, что мужественный, благородный, суровый человек соединяет в себе все качества, достойные любви, за исключением тех, какие могут дать счастье.