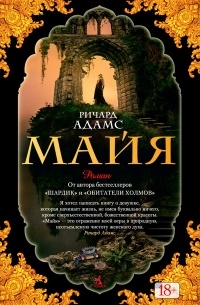Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
2. Хижина
У дальней оконечности озера, за деревней, узкая тропка вела вдоль берега к выгону. Там, у ограды, стояла бревенчатая хижина – просторная, но ветхая. За выгоном начинались поля проса, а на грядках во дворе зеленели конусы поздних брильонов.
В сумерках на тропинку выбежала босоногая одиннадцатилетняя девчушка, вздымая клубы пыли, и бросилась навстречу сестре. Обе остановились. Девочка торопливо вгрызлась в ломоть черного хлеба.
– Чего тебе, Келси? – спросила старшая.
– Майя, матушка осерчала, что тебя так долго нет.
– Ну и пусть!
– Я, как увидела, что ты идешь, решила предупредить. Она меня послала коров с выпаса пригнать, потому что Таррин еще не вернулся. Так я побегу, а то и мне влетит.
– Поделись хлебушком, – попросила старшая.
– Ой, Майя, мне ж ничего не останется!
– Дай кусочек, не жадничай. Есть хочется, сил нет. А я ужином с тобой поделюсь.
– Знаю я твои кусочки, – вздохнула Келси и чумазыми пальцами отщипнула корку.
Майя взяла хлеб, задумчиво пожевала, проглотила.
– Пусть только попробует меня без ужина оставить, – сказала она.
– Ага, она к тебе придирается, – с детской непосредственностью заявила Келси. – Похоже, за что-то невзлюбила, вот только за что, не пойму.
– Не знаю, – пожала плечами Майя. – Да мне на нее плевать!
– Она сегодня весь день жалуется, мол, ты уже взрослая, а от работы отлыниваешь, по хозяйству не помогаешь, ей все самой делать приходится. А еще говорит…
– Мало ли что она там говорит! Таррин не приходил?
– Нет, как с утра ушел, так еще не возвращался. Ну, я побегу, – сказала Келси, дожевав последние крошки хлеба, и вприпрыжку помчалась по тропе.
Майя неспешно, с ленцой, направилась к дому. У дверей хижины она остановилась, сорвала с куста оранжевый цветок санчели и воткнула в волосы за левым ухом, откинув за спину мокрые пряди.
На порог выбежала пухлая малышка лет трех и уткнулась Майе в колени. Майя, подхватив сестренку, расцеловала ее в румяные щеки:
– Куда это ты несешься, Лиррита? Никак в Теттит собралась?
Малышка рассмеялась. Майя с улыбкой стала раскачивать девочку, негромко напевая:
– Ты всю ночь будешь горло драть, лентяйка этакая?! Лишь бы по округе шляться, тварь! – донеслось из хижины.
Изможденная женщина помешивала варево у очага. Лицо со впалыми щеками еще хранило очарование былой красоты – так в вечернем небе заметны отсветы уходящего дня. Черные волосы припорошила печная зола, а глаза, воспаленные от дыма, глядели зорко и недовольно.
Даже в сгустившихся сумерках обстановка хижины выглядела убого. На земляном полу повсюду валялся мусор: рыбьи кости, очистки, огрызки и кочерыжки, прохудившееся ведро, грязное тряпье, какие-то прутики и хворостинки – Лиррита, играя, вытащила их из поленницы. К вони прогорклого жира примешивался сладковатый запах детской мочи. Пламя в очаге освещало треснутое весло у дальней стены. По хижине метались длинные дрожащие тени.
Женщина, не дожидаясь ответа Майи, опустила половник в котел, обернулась и угрожающе подбоченилась, выставив тяжелый живот. Из-за сломанного переднего зуба в речи слышалось змеиное шипение.
– Келси еще коров не пригнала, Нала белье во дворе собирает – ну, если его с веревки не стянули… Отчим твой невесть где шляется…
– Я уж давно белье принесла, – объявила чумазая девятилетняя девочка, полускрытая грудой плетеных корзин в темном углу. – Мам, дай поесть!
– Ах, вот ты где! Сначала приберись тут, а потом есть проси. Пол вымети, мусор в очаг выбрось, а потом за водой сходи. Глядишь, и на хлеб заработаешь.
Майя по-прежнему стояла у порога, качая на руках малышку.
– Где тебя носило, а? Мы тут весь день горбимся не покладая рук, а ты чуть ли не нагишом разгуливаешь, ухажеров завлекаешь, чисто шерна бекланская! – гневно воскликнула мать. – Что это у тебя за ухом?
– Цветок, – ответила Майя.
Мать выдернула пламенеющий бутон из волос дочери и швырнула на пол:
– И без тебя вижу, что цветок! Посмей только сказать, что не знаешь, зачем санчель за левым ухом носят!
– Ну и что такого? – улыбнулась Майя.
– А то, что негоже в таком виде по округе расхаживать! Вон какая здоровая вымахала! Я с утра до ночи спину гну, а ты гуляешь замарашкой.
– Я сегодня в озере купалась, – возразила Майя. – Это ты замарашка. И воняет от тебя.
Мать хотела было отвесить ей пощечину, но Майя, не выпуская малышку, перехватила и вывернула занесенную руку. Женщина оступилась и едва не упала, разразившись проклятиями. Лиррита испуганно завизжала. Майя шикнула на сестренку и, покачивая ее на руках, подошла к очагу и налила себе похлебки в плошку.
– Не тронь еду, не про тебя варено! – заорала мать. – Вот отчима твоего накормлю, как вернется, а что останется – сестрам твоим пойдет, они заработали. Слышишь, мерзавка?!
Майя, не обращая внимания на крики, опустила Лирриту на пол, отнесла плошку к столу и уселась на шаткую скамью.
Мать подхватила с пола хворостину:
– Прекрати своевольничать, не то выпорю!
Майя поднесла плошку к губам, хлебнула через край и предупредила:
– Ты меня не замай, а то самой не поздоровится.
Мать злобно уставилась на нее, взмахнула хворостиной и бросилась на Майю. Та вскочила, опрокинув скамью, и швырнула в мать плошку недоеденного варева. Горячий суп пролился на грудь, плошка упала на пол. Кончик хворостины оцарапал Майе руку. Тут Келси вернулась из коровника и удивленно уставилась на мать с сестрой, которые, навалившись на стол, колотили друг друга по головам и плечам. Сумеречное небо в дверном проеме заслонила чья-то фигура.
– Да ради Крэна и Аэрты! Что тут происходит? – воскликнул мужчина. – Чего вы орете на всю деревню? Эй, прекратите драку!
Он ухватил женщину за локти и притянул к себе. Она тяжело дышала, не выпуская из рук хворостины. Он выдернул у нее прутик и медленно обвел взглядом полутемную хижину, заметив и перевернутую скамью, и пролитый суп, и оцарапанную руку Майи.
– Из-за чего сыр-бор разгорелся? – с усмешкой спросил он. – Все, кончайте грызню. Ужин готов, или мне с пола подбирать? Я сети долго складывал, а то бы раньше пришел. Майя, ты куда? Подними плошку да на стол накрой.
В драке Майин заношенный сарафан разорвался; она наклонилась за плошкой, и в прорехе показалась налитая грудь.
– А ты меня еще и порадовать решила? – рассмеялся отчим. – Дай поесть сначала, я потом погляжу. Морка, солнышко мое, из-за чего шум?
Женщина смочила лоскут в кувшине воды и утерла потное лицо.
Майя подняла плошку, свободной рукой зажала дыру в сарафане и ответила отчиму:
– Я на озеро ходила. Вернулась, поесть хотела, а мать говорит, что не заслужила.
Морка визгливо обрушила на мужа поток жалоб:
– Полон дом бездельниц, еще один рот вот-вот народится – и не ухмыляйся, тут без тебя не обошлось! – а есть нечего. Кто обещал на рынок сходить, а вместо этого полдня в Мирзате пьянствовал с дильгайским отродьем? Ага, я все знаю. Вот и девки растут лентяйками, все в тебя. Майя – та вообще пальцем не шевельнет, ей на все наплевать! Помяни мое слово, в Зерае закончит! А ты тоже хорош, ей потакаешь! И зачем только я с тобой связалась!
Таррин как ни в чем не бывало сидел за столом и неторопливо поглощал поданный Майей нехитрый ужин – хлеб, суп и рыбу – с видом человека, который, попав под внезапный ливень, надеется, что непогода скоро закончится.
Сам он, четвертый сын мельника, родился не в Тонильде, а в Йельде, тридцать девять лет тому назад, и вырос беззаботным и шальным парнем. Работал он с ленцой – лишь бы на пропитание хватало, – но, если нужда заставляла, трудился на совесть, а потому вскоре приобрел репутацию надежного работника. О завтрашнем дне он не беспокоился, в споры не вступал, а покладистый нрав и обходительность делали его приятным собеседником. Таррин от жизни ничего не требовал и не ждал. Однажды он нанялся погонщиком в торговый караван, что шел за железной рудой в Гельтские горы, и так отличился своим рвением, что один из бекланских офицеров захотел взять его на службу в чине тризата, с отменным жалованьем. Кому другому польстило бы такое предложение, но Таррин, пропустив с офицером стаканчик-другой в таверне, от завидного места отказался, а месяц спустя стал подсобным рабочим в тонильданской деревне, где ему приглянулась девушка из местных.
Девушки Таррина вниманием не обделяли – парень он был ладный, щедрый и ласковый, нрава доброго и обхождения уважительного. Впрочем, сами девушки в нем быстро разочаровывались, обвиняли в неверности и непутевости, на что Таррин добродушно пожимал плечами, дожидаясь, пока праведный гнев и упреки не обернутся слезами и не завершатся нежным примирением. Если же упреки не стихали, то он не обижался, а просто начинал ухаживать за другой.
Корили его обычно не за то, что он сделал, а за то, чего не сделал. На справедливые обвинения у Таррина был один ответ – уйти прочь. Молодость его прошла легко и беззаботно, в смущенных улыбках и безропотных уступках. В общем, ему все сходило с рук.
Однако с подобным поведением мирятся недолго – взрослого мужчину порицают за то, что прощают юношам. За Таррином укрепилась слава человека легкомысленного; поговаривали, что, мол, хватит ему уже прохлаждаться да за юбками бегать, настало время одуматься.
Впрочем, врагов у Таррина не было, денег он не накопил, и подобные замечания нисколько его не огорчали. Лет в тридцать он на год нанялся на службу к Плорону, главному лесничему саркидского бана, и там, на весеннем празднике, встретил дочь Плорона Керемнису. Таррин стал за ней ухаживать – не из желания породниться со знатным семейством, а ради собственного удовольствия, – и Керемниса от него понесла.
Сам Плорон, человек хитрый и расчетливый, своего положения добился, среди прочих ухищрений, женитьбой на дочери родовитого человека, а потому неохотно, но готов был согласиться на свадьбу и даже приданого не пожалел. Однако Таррин, не имея никаких корыстных побуждений, ясно дал понять, что Керемниса ему не очень-то и нравится, чем жестоко оскорбил Плорона, который поклялся отомстить кровному обидчику. В южных провинциях империи Таррину оставаться было опасно, и он на три года ушел на север, в горы, где сперва промышлял канатным делом на острове Ортельга посреди реки Тельтеарна, а потом стал гуртовщиком в Терекенальте.
Там он и дожил бы до конца своих дней, если бы спустя три года после его бегства из Саркида не случилось восстание Леопардов в Бекле. Мятежники убили верховного барона Сенда-на-Сэя, а власть захватили Дераккон и пресловутая благая владычица Форнида, – впрочем, все это не обошлось без вмешательства Карната Длинного, короля Терекенальта. Терекенальт постоянно враждовал с Бекланской империей, и в королевстве от гнева Сенда-на-Сэя укрывались многочисленные беженцы. После восстания многие решили, что теперь возвращаться на родину безопасно; среди них был и Таррин, который все же предпочел держаться северных владений империи.
Поначалу он обосновался в Кебине Водоносном, но однажды весной, перегоняя стада дильгайского скотопромышленника на двадцать лиг к югу, в Теттит, попал на озеро Серрелинда, где встретил Морку. Молодая вдовушка с тремя дочерями знакомству обрадовалась, и Таррин с ней сошелся легко – как и с десятком женщин до нее.
Даже без кормильца семья не нищенствовала – покойный муж оставил Морке хижину, стадо коров и рыбацкую лодку со снастями. Но жить в глухом уголке Тонильды было тревожно – пришедшие к власти Леопарды поощряли работорговлю, да и в деревне молодой вдове без мужчины не обойтись. Таррин, несмотря на легкомыслие и безалаберность, своим присутствием развеивал постоянные страхи Морки, и она с радостью делила с ним ложе и кров. Через три года родилась Лиррита.
Таррин, будто увязший в болоте валун, привык к неспешной, размеренной деревенской жизни: рыбачил на озере, учил старших девочек управляться с лодкой, даже землю пахал – иногда на делянке Морки, но чаще на соседских полях, где за работу платили; деньги он пропивал в мирзатских тавернах, а время от времени уезжал в Теттит по каким-то своим делам (как выяснилось впоследствии, весьма сомнительного характера), но всякий раз возвращался, хотя и сам не сознавал почему. По правде говоря, он не желал признавать, что возраст брал свое. Таррину отчаянно хотелось покончить с изнурительным трудом и жить в свое удовольствие с Моркой и ее дочерями – особенно с дочерями. Морка, измученная тяжелой работой и постоянными тревогами, стала сварливой, склочной и раздражительной. Дочери ее не любили и побаивались, а отчима обожали и всячески баловали – им нравилось и его добродушное подтрунивание, и скабрезные шутки, и рассказы о приключениях и гулянках в Саркиде и Терекенальте. К девочкам он относился снисходительно, без строгости и, как многие стареющие бездельники, похвалялся своими подвигами перед детьми, которые, не зная жизни, принимали его слова за чистую монету.
И все же Таррин не уходил от Морки по другой причине – из-за Майи. Жил он, следуя своим прихотям, и о будущем не задумывался, а потому отцовских чувств к Майе не питал. Ему нравилось шлепать ее по заду, требуя ужина, подшучивать над ней и рассказывать в ее присутствии непристойные истории, громко смеясь над тем, как она наивно распахивает огромные синие глаза. Когда-то девушки наперебой увивались за Таррином, и он считал себя ценителем женской красоты. В последние полгода он, будто крестьянин, завистливо поглядывающий на соседскую телочку, увлекся юной прелестью Майи. Он с вожделением бросал на нее жадные взгляды – вот Майя смеется, дерзит матери, собирает цветы, купается в озере, по-детски не стесняясь своей наготы. От решительных действий Таррина удерживали два соображения: во-первых, Морка догадывалась о его намерениях и не скрывала своей злобной ревности. Возможно, она даже предполагала, что в один прекрасный день он ее бросит и сбежит с Майей в Теттит или Кебин, да куда угодно. Во-вторых, Майя была невероятно наивна, а невинную девушку легче изнасиловать, чем соблазнить, ведь она не представляет себе, что происходит, и не осознает плотских желаний, пробуждающихся в юном теле. По ночам Таррин, лежа с Моркой в кровати за занавеской, отделяющей угол хижины, мечтал о Майе – о ее румяных щеках и смущенно опущенных глазах, о прелестной наготе, о стыдливом шепоте, о восторженных ласках и об изумленных восклицаниях, о том, как она поддается порывам неведомой прежде страсти. Грезы его подпитывали воспоминания о былых победах – прошло уже немало времени с тех пор, как он завоевал очередное наивное сердце и лишил невинности девственницу.
Морка, ожидая рождения ребенка, стала гневливой и вспыльчивой; дочерей она ежедневно ругала, о своем внешнем виде не заботилась, домашнее хозяйство запустила и пребывала в постоянном изнеможении. Таррина к себе она не подпускала, находя в этом какое-то горькое удовлетворение. Впрочем, добродушная снисходительность Таррина объяснялась не его благонравием, а леностью и слабохарактерностью, а потому поведение Морки начало его раздражать. Морка, как и сам Таррин, со страхом осознавала, что приближается унылый закат ее дней, и часто с досадой и отчаянием воображала, что дочь похитила у нее и былую красу, и жизненные силы. Она с ненавистью смотрела на стройное, упругое тело дочери, на ее румяные щеки и золотистые кудри. Отец Майи был человеком бережливым и рачительным, умел вести хозяйство, и с ним семья процветала, но теперь Морка считала упрямую, своенравную красавицу-дочь лишним ртом.
Неподалеку от хижины, у озера, рос огромный ясень. Жаркими летними днями Майя удобно устраивалась среди раскидистых ветвей и, задумчиво жуя травинку, часами рассматривала свое отражение в зеленоватой воде, будто сонная кошка на завалинке. Когда Морка звала дочь помочь по хозяйству, подмести пол или начистить овощей для похлебки, Майя неохотно повиновалась – с ленивой, небрежной грацией, чем еще больше раздражала мать. Вскоре Майе надоели постоянные придирки, и она стала уходить к водопадам или в поля или проплывала на островок в центре озера, где весь день нежилась на солнце, возвращаясь домой только к ужину.
Семья жила бедно, но не впроголодь, впрочем еды всегда едва хватало. Девочки взрослели, и Морке казалось, что достатка им никогда не видать. Таррина она старалась кормить сытно, хотя и однообразно – хлеб, яблоки, похлебка и каша, – а дочери перебивались объедками. Однажды Майю послали на рынок в Мирзат продать свежесбитое масло, но по дороге она съела добрую половину. Морка выпорола дочь и пожаловалась Таррину.
– Ей впредь неповадно будет, – добавила она.
Таррин расхохотался и потребовал, чтобы Майя показала следы порки. Рубцов оказалось всего два – после второго удара Майя выхватила у матери прутик и переломила его о колено.
Сейчас, вспомнив об этом случае, Морка умолкла, сняла с гвоздя у двери деревянную лохань, приволокла ее к очагу и стала наполнять теплой водой, чтобы Таррин мог умыться. Таррин, заметив, что Морка отвернулась, лукаво подмигнул Майе и поднес палец к губам. Девушка улыбнулась в ответ, скинула сарафан и, завернувшись в старое одеяло, начала зашивать прореху.
Таррин утер ладонью рот, сплюнул на пол виноградные косточки, подошел к очагу и, усевшись на табурет, принялся разматывать грязные обмотки.
– Утихомирься, старушка моя, – сказал он, когда Морка поставила у его ног лохань с горячей водой. – В доме должен быть мир и покой. Жизнь слишком коротка, чтобы ее на ссоры тратить. – Он притянул ее к себе и усадил на колени. – Глянь лучше, чем я тебя порадую. Знаешь, что я серебро умею находить?
– Не городи чепухи! – угрюмо отмахнулась она.
– Я где хочешь серебро отыщу, – заявил Таррин, стремительно запуская руку ей за пазуху и вытаскивая оттуда серебряную монету. – Вот, видишь? Пятьдесят мельдов. Для тебя, моя красавица! Завтра как пойдешь сыр и масло продавать, так на рынке себе что-нибудь и купишь. Только не надо мне больше выговаривать про таверны да про дильгайское отродье. Ты же знаешь, я только тебя люблю, всем сердцем!
Морка ошеломленно уставилась на монету, осторожно взяла ее двумя пальцами и попробовала на зуб:
– Откуда это?
– Как откуда? Из-за пазухи! К дельдам твоим прилипла, а я и достал.
Майя, рассматривая шов в мерцающем свете очага, сдавленно захихикала.
– Бери, не бойся! – велел Таррин Морке. – Не краденая. Ты заслужила. А мне в награду поцелуй причитается.
Морка подозрительно посмотрела на него:
– С чего это ты так расщедрился? Опять в Теттит собрался, что ли? И когда тебя назад ждать?
– Никуда я не собираюсь! Завтра на озере порыбачу, если Майя сети починит. Вот ты с рынка вернешься, увидишь, сколько я рыбы наловлю – и карпа, и щуку, и форель. Мельдов восемьдесят заработаем, а то и больше. Не сомневайся. Нала, солнышко, – обратился он к девятилетней девочке, – уложи малышку. Ей давно спать пора. А ты, Келси, огонь в очаге потуши. Вытащи из огня полено, погаси его здесь, в лохани. Ну, не знаю, как вы, а меня ноги не держат. Майя, хватит уже шить, побереги свои ясные глазки. Завтра закончишь. Пойдем, красавица, – вздохнул он, обнимая Морку. – Сейчас уложим твое пузо, заодно я тебе и напомню, как ты им обзавелась.
Пятьдесят мельдов… Таких денег в доме давно не водилось, но Морка уже привыкла к непредсказуемому поведению Таррина и не стала допытываться, как он их раздобыл, хотя и сгорала от желания узнать, где он провел день.