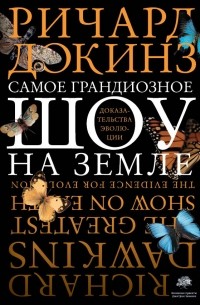Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава 4. Молчаливая старина
Если “отрицатели истории”, сомневающиеся в том, что эволюция – это факт, просто не знают биологии, то те, кто считает, что мир младше десяти тысяч лет, не просто невежды: их заблуждения граничат с безумием. Они отрицают не только факты, поставляемые биологией, но также физикой, геологией, космологией, археологией, историей и химией. Эту главу я посвящу определению возраста горных пород и содержащихся в них окаменелостей. Я представлю доказательства того, что время существования жизни на нашей планете измеряется не тысячелетиями, а тысячами миллионов лет. Вспомним уже использованную мной аналогию. Эволюционист находится в положении детектива, прибывшего на место преступления. Чтобы выяснить, когда происходили события, мы изучаем следы процессов, зависящих от времени, то есть пользуемся часами в широком смысле слова. Детектив, приступая к расследованию убийства, прежде всего интересуется у врача или патологоанатома временем смерти жертвы. Это весьма важная информация, и в детективной литературе заключению медика придается почти мистическое значение. Знание времени смерти – отправная точка рассуждений детектива. Оценка, конечно, может быть ошибочной. Патологоанатом для установления времени смерти наблюдает за ходом различных процессов: тело остывает постепенно и с известной скоростью, трупное окоченение наступает в определенный момент, и так далее. Это – достаточно грубые “часы”, доступные следователю. Часы, имеющиеся в распоряжении эволюциониста, потенциально гораздо точнее (разумеется, в рамках своей шкалы), и камень юрского периода в руках геолога больше похож на точный хронометр, чем остывающее тело, доставшееся патологоанатому.
Часы, изготовленные человеком, измеряют пренебрежимо малые с эволюционной точки зрения доли – часы, минуты, секунды – и поэтому основаны на быстрых динамических процессах: качании маятника, раскручивании пружины, колебаниях кристаллов, горении свечи, вытекании воды из сосуда или высыпании песка, вращении Земли (определяемом по движению солнечной тени). Эти процессы протекают с известной постоянной скоростью. Маятник качается с известной частотой, определяемой, по крайней мере в теории, только его длиной, но не амплитудой колебаний и не массой груза на его конце. Напольные часы работают благодаря присоединению маятника к анкеру, передающему движение зубчатому колесу, которое при помощи системы шестеренок обеспечивает ход секундной, минутной и часовой стрелок. Пружинные часы работают почти так же. Кварцевые часы работают при помощи эквивалента маятника – колебаний кристаллов определенного вида под воздействием энергии, поставляемой батарейкой. Водяные и огненные часы обладают куда меньшей точностью, но ими широко пользовались до изобретения часов, основанных на постоянстве хода. Они основаны не на подсчете отрезков времени, как маятниковые или цифровые часы, а на измерении объема. Солнечные часы – неточный способ измерения времени. Однако вращение Земли позволяет создать более точные, хотя и медленные часы, которые мы называем календарем. Это происходит именно потому, что при таком масштабе часы становятся не измеряющими (как солнечные часы, измеряющие постоянно меняющееся склонение солнца), а счетными (подсчитывающими число циклов день/ночь).
В медленном временном масштабе эволюционного процесса мы располагаем как счетными, так и измеряющими часами. Но для того, чтобы по-настоящему исследовать эволюционный процесс, нам скорее нужны не часы, определяющие текущее время, как солнечные или механические часы, а аналог секундомера, который можно обнулять. Нам нужно, чтобы эволюционные часы в какой-то момент обнулились, чтобы мы могли затем подсчитать, сколько времени прошло с этого момента, и установить абсолютный возраст объекта, например фрагмента горной породы. Так, радиоактивные часы для измерения возраста вулканической породы обнуляются в момент ее образования из затвердевающей лавы.
К счастью, существует несколько разновидностей природных “часов” с возможностью обнуления. Особенно приятно как раз то, что их несколько: это позволяет нам проверять точность одних часов с помощью других. Еще приятнее то, что они покрывают огромный спектр временных масштабов, и это нам действительно необходимо, поскольку временные масштабы эволюционного процесса могут различаться на семь или восемь порядков. Думаю, будет полезным объяснить, что это значит.
“Порядок” – весьма точное понятие. Изменение на один порядок подразумевает умножение или деление на десять. Поскольку мы пользуемся десятичной системой счисления, то порядок числа определяется количеством нолей до или после запятой. Таким образом, различие на восемь порядков – это различие в сто миллионов раз. Секундная стрелка часов вращается в 60 раз быстрее минутной стрелки и в 720 раз быстрее часовой. Следовательно, три стрелки часов покрывают меньше, чем три порядка. Это – ничто по сравнению с восемью порядками, покрываемыми нашим арсеналом геологических часов. Для коротких промежутков времени (до долей секунды) существуют “часы”, основанные на радиоактивном распаде, но самые точные часы, которые нам могут потребоваться для эволюционных нужд, измеряют века или десятилетия. Эти “быстрые” природные часы – годичные кольца деревьев и радиоуглеродный метод датирования – полезны археологам и при определении возраста образцов времен одомашнивания собак или капусты. На противоположном конце шкалы нам нужны часы, способные надежно отмерять сотни миллионов и даже миллиарды лет. И – хвала природе – она предоставила нам весь спектр “часов”, которые могут нам потребоваться. Более того, их шкалы перекрывают друг друга, что позволяет нам использовать их для перепроверки.