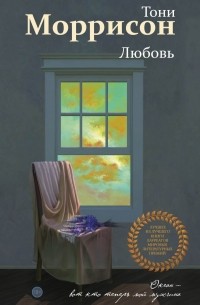Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
2. Друг
Вида поставила гладильную доску. И почему в больнице сократили услуги прачечной для сотрудников, сделав исключение только для «особо важного персонала» – врачей, медсестер и лаборантов, – она понять не могла. Теперь уборщики, разносчики еды, а также ассистенты вроде нее должны были сами заботиться о стирке и глажке своей униформы, и это напоминало ей о том, как было на консервном заводе до того, как Билл Коузи увез ее оттуда, предложив первую в жизни работу, где требовалось ходить в чулках. Она, разумеется, надевала чулки в больнице, но толстые, белые. А не те тонкие и женственные, которые она носила, когда работала портье в отеле Коузи. Плюс очень красивое платье – в таком было не стыдно и в церковь пойти. Билл Коузи купил ей вдобавок еще два, так что она могла их менять, и постояльцы, видя ее всегда в одном и том же, не подумали бы, что это униформа. Вида тогда решила, что он вычтет стоимость платьев из ее заработка, но он этого не сделал. Он получал удовольствие, доставляя удовольствие другим. «Все радости жизни», любил он повторять. Это был девиз курорта, и он обещал это каждому постояльцу: «Все радости жизни без нарушения закона». Воспоминания Виды о работе на курорте перемешались с детскими воспоминаниями об отеле, когда туда приезжали разные знаменитости. Ни досадные оплошности персонала, ни даже несчастные случаи во время купания их не отпугивали, и они не уезжали, а, наоборот, с удовольствием возвращались на следующий год. А все благодаря неизменно сияющей улыбке Билла Коузи и гостеприимству, которым так славился курорт. Его смех, крепкие объятия, его инстинктивное понимание нужд посетителей заглаживали любую шероховатость. И если кто-то из постояльцев выражал недовольство из-за случайно подслушанной перепалки между персоналом, или жалобы чьей-то глупой спесивой жены, или мелкой кражи, или сломанного потолочного вентилятора, шарм Билла Коузи и поварское мастерство Л. всегда выручали. Когда фонарики, окаймляющие танцплощадку, качались на ветру, когда оркестр разогревался перед концертом, когда появлялись женщины, разодетые в муар и шифон и источавшие волны жасминового аромата, когда мужчины в элегантных ботинках, с безукоризненными стрелками на льняных брюках придвигали дамам стулья, чтобы те могли усесться за столиком вплотную к ним, отсутствие солонки или слишком громкая перебранка, донесшаяся до ушей постояльцев, значения не имели. Танцующие медленно кружились под звездами и не сетовали на слишком долгие перерывы между танцами, потому что океанский бриз пьянил и веселил их куда больше, чем коктейли. А совсем поздним вечером – когда те, кто не играл в вист, заливали небылицы у барной стойки, а парочки незаметно растворялись во тьме, – оставшиеся на площадке пускались отплясывать под мелодии с диковинными названиями, которые музыканты выдумывали на ходу, чтобы одновременно привлечь, озадачить и поразить свою аудиторию.
Вида считала себя практичной женщиной, благоразумной и душевной, скорее предусмотрительной, чем мечтательной. Но тем не менее у нее остались только самые сладкие воспоминания о том девятилетнем периоде в ее жизни, начавшемся сразу после рождения ее единственного ребенка – Долли – в 1962 году. Тогда еще можно было не замечать медленного заката курорта Коузи, что позднее скрывать стало невозможно. А потом Билл Коузи умер, и девчонки Коузи затеяли ссору прямо у его гроба. И снова, как и всегда, Л. восстановила спокойствие. Стоило ей прошипеть им в лицо пару слов, как обе разом замолкли. Кристин убрала нож, а Хид подхватила свою смешную шляпку и отошла к другому краю могилы. Вот так они и стояли по обе стороны гроба Билла Коузи, одна справа, другая слева, с одинаковым выражением лица, хотя лица у них разные, как мед и сажа. Вот что делает ненависть. Выжигает все, кроме себя самой, и какое бы у тебя ни было горе, твое лицо выглядит точь-в-точь как у твоего врага. И после того случая ни у кого не возникало сомнений, что все радости жизни умерли вместе с ним. Если Хид втайне лелеяла мечту возродить отель и снова сделать его таким, каким он был, когда маленькая Вида бегала по Ап-Бич, эта мечта рухнула в тот самый день, когда Л. уволилась. Она подняла с земли похоронную лилию и больше в отеле не появлялась – даже за вещами не вернулась, ни за своим поварским колпаком, ни за белыми оксфордами. Она прошагала в выходных туфлях на пятисантиметровых каблуках от кладбища до самого Ап-Бич, заявила права собственности на материну хибару и в ней поселилась. Хид сделала все, что могла и что требовалось, пытаясь сохранить гостиничный бизнес, но шестнадцатилетний диск-жокей с пленочным магнитофоном мог завлечь на танцплощадку только местных. Никто из настоящих толстосумов не хотел ехать за тридевять земель, чтобы танцевать под такое, и не хотел платить за номер в отеле, чтобы услышать слащавые мелодии в стиле ду-уоп, которые можно послушать и дома по радио, и никого из прежних постояльцев не прельщала открытая танцплощадка с толпой подростков, трясущихся под музыку, которую они никогда не слышали. К тому же, и это самое главное, и еда, и сервис, и чистота постельного белья недотягивали до привычного им уровня изысканности, не замечаемой и не востребованной новыми отдыхающими.
Вида обогнула носиком утюга пуговки, в который уж раз проклиная выемку в металле, без которой, по разумению какого-то идиота мужского пола, при глажке было просто не обойтись. Такой же идиот решил, что легкий стальной утюг гладит лучше, чем чугунный. Легкий-то он легкий, да только не отглаживает то, что требует особой тщательности – а на обычных вещах, футболках, тонких полотенцах, дешевых наволочках складки можно и влажными руками разгладить… Но только не на больничной униформе из плотного хлопка, с двенадцатью пуговками, с обшлагами на рукавах да с четырьмя карманами, и еще со стоячим воротничком, отдельно пришитым к отворотам. Вот до чего она дошла! Вида понимала: ей еще сильно повезло с этой работой в больнице. Какой-никакой, а ее заработок помогает наполнить дом звоночками всех этих полезных новинок, сигналящими, что пора вынимать разогретую еду из микроволновки, или белье из стиральной машины или из сушки, и что где-то появился опасный дым, и что телефонная трубка не положена на рычаг. Огоньки начинали мигать, когда в кофеварке был готов свежий кофе, а в тостере – тосты, и утюг разогрет до нужной температуры. Но как ни повезло ей с нынешней работой, Вида все равно тосковала по той, давнишней, которая приносила ей хотя и не так много денег, но зато куда больше радости. Курортный отель Коузи был не просто развлекательным заведением, а школой и кровом, клубом, где люди обсуждали бунты в городах и убийства активистов в Миссисипи, вели жаркие споры о том, что с этим делать – не только же горевать и беспокоиться за своих детей. А потом начинала играть музыка, которая убеждала их всех, что они смогут справиться со всеми трудностями и будут жить как ни в чем не бывало…
Она не сдавалась, эта Хид. Тут ей надо отдать должное. Но только за это, а не за то, что она раздала семьям, пострадавшим во время урагана, драные полотенца и простыни, хотя могла бы и денег дать. В течение многих лет, вплоть до самой его смерти, когда Коузи, старея, утерял интерес ко всему, кроме Нэта Кинга Коула и «Дикой индейки», Хид суетилась в отеле, точно ухудшенная версия Скарлетт О’Хара, – отвергая любые советы, увольняя самых работящих, нанимая самых никудышных и без устали цапаясь с Мэй, единственной, кто реально отравлял ей жизнь. Но не могла же она уволить падчерицу при живом Коузи, даже при том, что он целыми днями рыбачил, а потом почти все ночи проводил в компании подвыпивших приятелей. Да, и вот чем все кончилось: властный красивый мужчина пал жертвой враждующих женщин, позволив им разрушить все, им построенное. И как они смогли такое учудить, поражалась Вида. Как они могли допустить в отель всякое отребье бандитского вида, разнорабочих, рвань с консервного завода, мигрантов-поденщиков, за которыми тут же хвостом увязалась полиция, и отель попал в зону ее внимания. Поначалу Вида считала, что разношерстная клиентура наводнила курорт из-за клептоманки Мэй: одному богу ведомо, что эти шаромыжники тырили из отеля. Правда, Мэй повадилась таскать вещи еще до того, как Вида пришла туда работать, и задолго до того, как изменился контингент постояльцев курорта. Если говорить совсем точно, то уже на второй день работы за стойкой портье Виду едва не обвинили в воровстве, а все из-за пагубного пристрастия Мэй. В отель заселялась семья из Огайо, четыре человека. Вида раскрыла регистрационную книгу. Дата, фамилия, номер комнаты уже были аккуратно выведены печатными буквами слева, а справа оставалось место для росписи постояльца. Вида потянулась к мраморному чернильному прибору, но авторучки не обнаружила – ни на подставке, ни поблизости. Смутившись, она полезла в ящик. Хид появилась в тот момент, когда она протягивала отцу семейства карандаш.
– Как это так? Почему ты даешь гостю карандаш?
– Ручка пропала, мэм.
– Не может быть. Поищи лучше.
– Я искала. Ее нигде нет.
– А у себя в сумочке ты не смотрела?
– Простите…
– Или в кармане своего пальто?
Хид посмотрела на гостей и одарила их виноватой улыбкой, словно давая понять, как трудно ей управлять никудышными сотрудниками. Виде тогда было семнадцать, и она недавно родила. Должность, которую ей дал мистер Коузи, была достойная и, как она надеялась, постоянная, позволявшая навсегда расстаться с вонючим рыбным цехом, где она раньше трудилась и где все еще работал ее муж. У нее пересохло во рту и затряслись пальцы, когда Хид заподозрила ее в краже. Покатившиеся по щекам слезы еще больше ее унизили, но тут подоспела подмога – женщина в белом поварском колпаке с авторучкой в руке. Женщина вернула ручку на место и, обратившись к Хид, тихо заметила:
– Мэй. Ну, ты это и сама знаешь.
Вот тогда-то Вида и поняла, что тут ей предстоит научиться не только регистрировать новых постояльцев и считать их деньги, но гораздо большему. Как и на любой другой работе, здесь сложились враждующие альянсы, которые вели непонятные битвы и торжествовали мелкие победы. Мистер Коузи был королем, Л. – женщина в поварском колпаке – кардиналом, а все остальные: Хид, Вида, Мэй, официанты, горничные – придворными, соперничавшими друг с другом за улыбку монарха.
Ей самой было удивительно, с чего это она недавно за ужином вдруг припомнила старую сплетню о причине смерти мистера Коузи. Ненавидя сплетни, рождавшиеся в завистливых мозгах, она хотела верить диагнозу врача: сердечный приступ. Или словам Л.: «больное сердце». Или даже тому, что брякнула Мэй: «десегрегация в школьных автобусах». Но, разумеется, не тому, о чем злословили его недруги: «последствия сифилиса». Сэндлер тогда изрек: восемьдесят один год – этого вполне достаточно, Билл Коузи просто устал жить. Но Вида собственными глазами видела, какой мутной была в его стакане вода перед тем, как он ее выпил, и как дернулась его рука – не к груди, где сердце перестало биться, а к желудку. Но все те, кто желал его смерти – Кристин и чей-нибудь муж или пара мужей, и кое-кто из белых бизнесменов, – были тогда далеко. А рядом с ним – только она, Л. и официант. Боже, какая тогда поднялась суматоха. Умирающее тело двигалось, корчилось в предсмертных судорогах. А потом Хид начала истерично орать. Мэй побежала в дом на Монарх-стрит и заперлась там в чулане. Если бы не Л., то самому уважаемому человеку в округе не организовали бы достойных похорон, которых он заслуживал. И когда Кристин и Хид чуть не сорвали церемонию в самом конце, Л. встала между этими настырными гадюками и заставила их прикусить языки. И, как все говорят, они до сих пор не разговаривают, дожидаясь, когда кто-нибудь из них помрет. Выходит, та девушка, которую Сэндлер направил к ним в дом, родня Хид. У нее единственной остались живые родственники. Не меньше полусотни племянников и племянниц от пяти братьев и трех сестер. А может, девчонка и не родня никакая. Вида решила поручить Ромену все разузнать – окольными путями, если удастся, а не удастся – так напрямую. Хотя получить от него достоверный ответ – на это надежда слабая. Паренек что-то в последнее время стал рассеянный и какой-то смурной. Если б кто из его родителей сейчас приехал в отпуск, было бы совсем неплохо: хоть присмотрят за ним, пока он не попал в беду, а ведь если с ним что-то случится, то ни Сэндлер, ни она ничего поделать не смогут. Костяшки на руках у него сбиты явно не от работы лопатой. Он с кем-то подрался. Плохо!
Стоя перед датчиком бойлера в подвале, освещенном одинокой лампочкой, Сэндлер усмехнулся: Вида опять за свое. А и правда, ноги той девчонки его поразили. На таком морозном ветру с голыми ногами – и ни намека на мурашки! На ногах кожа упругая, гладкая, а под ней угадывается крепкая мускулатура. Ноги танцовщицы: длинные, тоскующие по движениям, желающие подняться, раздвинуться, крепко тебя обхватить… Постыдился бы, старый, подумал он, и его усмешка превратилась в приглушенный смех: дедушка уже, пятидесяти с лишком лет, верный и преданный жене, хихикает в рукав и радуется, что возбудился, случайно увидев голые девичьи ляжки. Он знал, что проявленная им в разговоре с ней грубоватость была реакцией на желание, которое она в нем пробудила. И понадеялся, что она это тоже поняла.
Сэндлер посмотрел на стрелку датчика и стал гадать, дотянут ли установленные на нем восемьдесят градусов до семидесяти в его спальне, потому что выставленные сейчас семьдесят градусов в спальне снижались до шестидесяти. Он вздохнул, пытаясь решить эту трудную задачку: печь, в которой редко возникала нужда в здешнем климате, тоже, наверное, была в замешательстве по поводу своей работы, как и он. И Сэндлер снова вздохнул, вспомнив полуодетую девушку, которая, очевидно, приехала с Севера и привыкла к заморозкам. Он даже вообразить себе не мог, зачем ей понадобился кто-то из женщин Коузи. Надо попросить Ромена выяснить. Или не стоит? Просьба пошпионить еще, чего доброго, омрачит их взаимоотношения, которые и без того испортились из-за недоверия. Ему хотелось, чтобы Ромен рос честным парнем, а не вынюхивал у пожилых женщин чужие секреты, выполняя фривольное поручение деда. Такое поручение подорвет его моральный авторитет. Хотя… Если парню удастся что-то вынюхать, он с интересом выслушает его рассказ – кто ж откажется! Людей у нас хлебом не корми – дай только посплетничать о семействе Коузи. Вот уже полвека как на всем побережье – в Оушенсайде, Сукер-Бей, Ап-Бич и Силке – об их семейных делах любой рад почесать языком. Оно и понятно: курорт был для всех как магнит. Местных обеспечивал разной работой, помимо привычной рыбалки да закатывания крабового мяса в банки, привлекал приезжих со всех концов страны, о которых потом годами возбужденно сплетничали. А так ведь, кабы не гости курорта, местные никого, кроме своих соседей, и не видали бы. И когда респектабельные туристы перестали сюда приезжать, эту утрату все тяжело переживали: так бывает, когда после мощной волны, сбежавшей обратно в океан, на песке остаются валяться одни только пустые раковины да обрывки нечитаемых рукописей.
В их оушенсайдском доме были холодные углы, куда тепло от труб отопления, похоже, никогда не добиралось. Но и теплые места тоже были. И все его попытки подрегулировать термостат, систему отопления и фильтры ни к чему не приводили. Как и для соседей, для него постройка этого дома была чисто символическим действием: двухдюймовые гвозди вместо четырехдюймовых, тонкая кровля гарантировала простоять десять лет, а не тридцать, окна, застекленные в одно полотно, вечно дребезжали в рамах. С каждым годом Сэндлер все больше проникался любовью к тому краю, откуда они с Видой когда-то уехали. Она, конечно, была права, что уговорила его уехать из Ап-Бич еще до засухи, после которой случилось наводнение, и она о том своем решении никогда не жалела. А он вот жалел почти каждый день, как сейчас, в этот жутко холодный вечер, и грезил о потрескивающих поленьях в пузатой печурке, о чудесном запахе горящих досок, найденных на берегу. Он не мог забыть живописную картину вытянувшихся в ряд лачуг в Ап-Бич, преображенных магическим светом луны. А здесь, в этом доме, выстроенном по одобренному проекту, согласно государственной жилищной программе, где было так много рукотворного света, луна не могла никого сбить с пути истинного. Планировщики полагали, что темнокожие будут менее склонны к темным делишкам, если в местах их обитания удвоить количество уличных фонарей – чтобы стало как в любом другом районе. Только в приличных кварталах города да в сельской местности люди доверялись темноте. Поэтому даже полная яркая луна Сэндлеру казалась далеким маяком для искателя сокровищ, а не тем сказочным золотым покрывалом, которое распростерлось над ним и ветхой лачугой его детства, сотворив с ним извечный фокус, что проделывает со всеми мир, заставляя тебя поверить, будто он – твой и все в нем принадлежит тебе. А ему хотелось, чтобы луна вновь протянула длинный золотой перст, который пробежал бы по океанским волнам и указал прямо на него. Где бы он ни стоял на пространном пляже, прикосновение этого перста было незыблемым и нежным, словно прикосновение материнской руки, потому что золотой перст безошибочно находил его, всегда зная, где он. И хотя Сэндлер отдавал себе отчет в том, что это прикосновение исходит от холодного камня, не способного даже выразить свое равнодушие, он также знал, что этот перст указывает именно на него и ни на кого другого. Как та прилетевшая на крыльях ветра девушка, которая тоже выбрала его и, явившись из порыва вечернего ветра и встав между яркой лампочкой в гараже и закатным солнцем, окаймленная сиянием, ярко освещенная лучом света, глядела только на него…
Билл Коузи сделал бы для этой девушки куда больше. Он бы пригласил ее зайти погреться, предложил бы довезти ее куда надо, вместо того чтобы рявкнуть, усомнившись в точности адреса. И уж Коузи наверняка бы добился своего. Это ему почти всегда удавалось. Вида, как и многие другие, всегда относилась к нему с обожанием, всегда говорила о нем с всепрощающей улыбкой. Она гордилась его манерами, богатством и тем примером, что он подавал, заставляя всех думать, что терпением и упорством они смогут добиться в жизни того же, что и он. Но Сэндлер много раз с ним рыбачил и, не претендуя на знание его души или кошелька, хорошо знал его повадки.
Яхта покачивалась на волнах с подветренной стороны в бухточке: вопреки ожиданиям Сэндлера, они не стали выходить в открытое море. Его удивило приглашение на рыбалку, так как Коузи обычно приглашал на свою яхту только особых гостей курорта или, чаще всего, шерифа Бадди Силка – члена семьи, чья фамилия дала название целому городку и чья фантазия придумала для здешних улиц наименования в честь героев эпических кинокартин. Коузи подкатил к Сэндлеру на дороге, где тот припарковал свой драндулет в ожидании Виды. Он остановил бледно-голубую «Импалу» рядом с пикапом Сэндлера и спросил:
– Ты завтра не занят?
– Нет, сэр.
– Не работаешь?
– Нет, сэр. Консервный завод по воскресеньям закрыт.
– А, верно!
– Я вам для чего-то нужен?
Коузи поджал губы, словно продолжал обдумывать невысказанное приглашение, и отвернулся. Сэндлер изучал его профиль, чем-то схожий с профилем на пятицентовой монетке, только без косичек и перьев. Коузи, по-прежнему красивому, тогда было семьдесят четыре, а Сэндлеру двадцать два. Коузи был больше двадцати лет как женат, а Сэндлер – меньше трех. У Коузи денег была куча. А Сэндлер зарабатывал доллар семьдесят центов в час. Он тогда поймал себя на мысли: интересно, есть ли еще на свете двое мужчин, кому вообще не о чем разговаривать друг с другом?
Приняв решение, Коузи повернулся к Сэндлеру.
– Я собираюсь порыбачить. Выхожу завтра до рассвета. Подумал, может, ты захочешь присоединиться?
Возясь с рыбой целыми днями, Сэндлер даже не задумывался о том, что рыбная ловля для кого-то может быть приятным развлечением. Он бы ради развлечения поохотился, а не порыбачил, но отказаться было нельзя. Виде бы это не понравилось, к тому же он слыхал, что у Коузи шикарная яхта.
– Ничего с собой приносить не надо. У меня все есть.
Мог бы и не говорить, усмехнулся про себя Сэндлер.
Они встретились на пирсе в четыре утра и сразу же вышли в океан. Оба молчали. Ни слова о погоде или о видах на улов.
В то утро Коузи казался куда менее радушным, чем накануне вечером. Сэндлер объяснил себе эту перемену в настроении серьезностью задачи: непросто было управлять миниатюрным лайнером, который сначала предстояло вывести в открытый океан, а затем направить в одну из бухточек, где Сэндлер раньше никогда не бывал. Или же дело было в том, что они вдруг оказались вдвоем. Коузи на публике никогда не общался с местными, то есть он их, конечно, нанимал на работу, шутил с ними, иногда даже помогал в трудных ситуациях, но, кроме церковных пикников, местных на территорию курорта не допускали – ни в ресторан, ни на танцплощадку. Когда-то, в сороковые, их отпугивали кусачие цены, но даже если местная семья скапливала достаточно средств, чтобы сыграть в отеле Коузи свадьбу, им отказывали. Вежливо. С сожалением. Но твердо. Мест нет и не предвидится. Кого-то столь откровенные отказы, может, и обижали, но в те давние времена люди не протестовали, считая подобное отношение к себе вполне объяснимым. У них не было ни соответствующей одежды, ни денег, да им не очень-то и хотелось чувствовать себя не в своей тарелке рядом с теми, у кого всего этого было вдоволь. Когда Сэндлер был мальчишкой, им вполне достаточно было просто глазеть на гостей, любоваться их автомобилями, дорогими кожаными чемоданами, слушать звучавшую издалека музыку и танцевать под нее в ночи, в кромешной темноте между домами, скрываясь в тени под окнами. Им достаточно было просто знать, что они живут рядом со знаменитым курортным комплексом Билла Коузи, где для отдыха созданы шикарные условия, каких не найти больше нигде в округе или, если на то пошло, во всем штате. Рабочие консервного завода и рыбацкие семьи говорили о нем с придыханием. Как и горничные, приезжавшие в Силк, и прачки, и сборщики фруктов, а также учителя из окрестных школ и даже заезжие проповедники, обычно не одобрявшие подогретые спиртным сборища и танцульки, – все ощущали свою причастность к реализованной тайной мечте, причастность, переросшую в чуть ли не принадлежность к процветающему курорту, которым владел один из «наших». Эта сказка не умерла даже после того, как отель, чтобы продолжить существование, распахнул свои двери всякому сброду, который раньше на порог не пускали.
– Косяки бониты опять вернулись в наши воды! – сообщил Коузи. – Но, думаю, долго они тут не задержатся.
Его лицо просветлело, он достал термос с кофе, который, как Сэндлер сразу же обнаружил, оказался настолько «крепленым», что напоминал кофе только цветом, но никак не вкусом. И напиток возымел действие. Скоро оба наперебой обсуждали достоинства Кассиуса Клея, позабыв о разгоревшемся было споре по поводу Медгара Эверса.
Улов оказался небогатым, но их беседа с шутками-прибаутками не замирала вплоть до восхода, когда алкоголь выветрился и разговор приобрел мрачную тональность. Глядя на корчащихся червяков в брюхе выловленной зубатки, Коузи процедил:
– Когда убиваешь хищников, самые слабые сожрут тебя заживо.
– Все знают свое место, мистер Коузи, – заметил Сэндлер.
– Верно. Все. Кроме женщин. Они вечно лезут куда их не просят.
Сэндлер рассмеялся.
– В постель, – продолжал Коузи, – на кухню, во двор, за стол, тебе под ноги, тебе на шею.
– Ну, наверное, это не так уж и плохо, – предположил Сэндлер.
– Нет, нет! Жизнь прекрасна и удивительна!
– Тогда почему же вы не улыбаетесь?
Билл Коузи внимательно посмотрел на Сэндлера. В его глазах, хотя и блестевших от выпитого, застыло страдание – они напоминали треснутое стекло.
– А что обо мне болтают? – спросил он, отхлебнув из термоса.
– Кто?
– Да вы все. Сам знаешь кто. У меня за спиной.
– Вас очень уважают, мистер Коузи.
Коузи тяжело вздохнул, словно ответ его разочаровал.
– Будь я проклят, если это так. И будь я проклят, если не так.
И потом, стремительно сменив тему, как это свойственно детям и пьяницам, добавил:
– Моему сыну Билли было столько же, сколько тебе сейчас. Ну то есть когда он умер.
– Да что вы!
– Мы с ним всегда ладили. Прекрасно ладили. Мы с ним были как два закадычных друга, а не просто как отец с сыном. Когда я его потерял… будто кто-то вдруг вылез из могилы и уволок с собой. В голове не укладывается…
– Кто-то?
– Я хотел сказать – что-то.
– А отчего он умер?
– Коварнейшая болезнь. Ее называют «атипичная пневмония». Никаких симптомов. Кашлянул раз или два, и все – тушите свет! – Он с ненавистью поглядел в воду, словно там обреталась не дающая ему покоя тайна. – Меня это просто подкосило. Долго потом пришлось приходить в себя.
– Но вам удалось… Прийти в себя.
– Да, – с улыбкой произнес он. – В моей жизни появилась красивая женщина, и тучи рассеялись.
– Ну вот, видите. А вы жалуетесь…
– Ты прав. Но мы с ним были настолько близки, что я почему-то не удосужился узнать его получше. Я все никак не мог взять в толк, зачем он выбрал себе такую женщину, как Мэй, зачем женился на ней… Может быть, он был совсем не таким, каким я его себе представлял, а я сделал из него… свою тень. И теперь мне кажется, что я вообще никого не понимаю. А раз так, то почему кто-то должен понимать меня?
– Людей вообще трудно понять. О людях можно судить только на основании их поступков, – произнес Сэндлер и подумал: старик что, жалуется, как он одинок и что его никто не понимает? Что он переживает о сыне, который умер двадцать с лишком лет тому назад? И этот человек, у которого друзей больше, чем пчел в улье, переживает за свою репутацию? Женщины готовы перегрызть друг дружку, лишь бы привлечь к себе его внимание, словно он знаменитый проповедник. А он еще сетует, какое это для него тяжкое бремя…
И Сэндлер решил, что виски настроил Коузи на слезливый лад. Да, наверное, все дело в виски, в противном случае он оказался бы в компании дурака. Легче проглотить раскаленные камни, чем выслушивать жалобы богатого человека. Почувствовав себя немного уязвленным, Сэндлер привлек внимание собеседника к банке с наживкой. Если бы он еще подождал немного, Коузи и сам бы сменил тему. Что тот и сделал, спев несколько куплетов из песни «Плэттерс».
– А знаешь ли ты, что все законы в нашей стране пишутся для того, чтобы вернуть нас в прошлое?
Сэндлер взглянул на него и подумал: а это еще к чему? И сказал со смехом:
– Не может быть!
– Так и есть!
– А как же… – Но Сэндлер не смог припомнить ни одного закона о чем-нибудь, кроме убийства, но этот аргумент не помог бы ему в споре. Всем известно, кого отправляют в тюрьму, а кого нет. Чернокожий убийца – просто убийца, а белый убийца – несчастный. Он не сомневался, что в основе всех законов – деньги, а не цвет кожи, о чем так прямо и сказал.
Коузи, медленно подмигнув, покачал головой:
– А ты вот о чем подумай. Негр может получить краткосрочный кредит наличными, под солидный залог, но на банковскую ссуду нет никакой надежды. Об этом подумай!
Но Сэндлеру не хотелось об этом думать. Он недавно женился, недавно у него родилась дочка. Вида – вот его кредит наличными. А Долли – его главная надежда.
Это была их первая рыбалка из многих, первая доверительная беседа из многих. В конце концов Коузи уговорил Сэндлера бросить разделку крабов на консервном заводе. С чаевыми работа официантом в отельном ресторане могла принести куда больше денег. Сэндлер поработал так несколько месяцев, но в 1966-м, когда по всем крупным городам страны прокатилась волна беспорядков, директор консервного завода предложил ему должность бригадира в надежде, что тем самым он заранее пресечет смуту, которая могла бы зародиться в среде сплошь чернокожих заводчан. И это сработало. Да и Коузи было легче продолжать дружбу с заводским бригадиром, а не с одним из своих официантов. Но чем больше Сэндлер узнавал этого человека, тем меньше он его понимал. Иногда симпатия побеждала разочарование, а иногда неприязнь брала верх над симпатией.
Как после того, когда Коузи поведал ему вот такую историю из своего детства. Однажды отец попросил его поиграть на соседском дворе, чтобы малыш смог проследить, кто выходит из их дома через заднюю дверь. Каждое утро он бегал туда. И смотрел. И как-то раз заметил, что из задней двери выскользнул мужчина. В тот же вечер он увидел, как того мужчину проволокли по всей улице, привязав к фургону, запряженному четверкой лошадей.
– Вы помогли поймать вора и убийцу? – восхищенно спросил Сэндлер.
– Угу.
– Вы молодец!
– За фургоном бежала ватага детей, они плакали. Среди них была девчушка, одетая в лохмотья. Она наступила ножкой в конское яблоко, споткнулась и упала. Все вокруг засмеялись.
– И что вы сделали?
– А ничего не сделал. Ничего.
– Вы же тогда были маленьким?
– Да.
Невольно возникшая у Сэндлера за время рассказа симпатия вдруг сменилась оторопью, когда он подумал, что и маленький Коузи тоже смеялся вместе со всеми. В другие моменты в нем просыпалась активная неприязнь к старику – например, когда тот поведал, как отказался продать местным свою землю. Общественное мнение разделилось: кто-то осуждал его, кто-то – его жену за то, что они продали землю девелоперу, предложившему им деньги из государственного фонда застройки. Скопив выручку от продажи жареной рыбы, домашних булочек и пирожков и ненужного в доме хлама и добавив еще церковные пожертвования, люди смогли собрать достаточно для первого взноса. Они планировали создать что-то вроде кооператива, объединяющего небольшие предприятия, школу в рамках программы «Удачное начало», культурный центр поддержки искусства и ремесел и учебные курсы по истории чернокожих американцев и социальной самозащите. Поначалу Коузи загорелся этой идеей, но все время тянул с заключением контракта, тянул до тех пор, пока принимать решение не пришлось уже его вдове. Но не успели положить на его могилу надгробную плиту, как она продала землю. И когда Сэндлер и все остальные переехали жить в Оушенсайд, он по-прежнему относился к Коузи неоднозначно. Сколько бы он его ни изучал, сколько бы ни наблюдал за ним, это не могло изменить его двойственного отношения – для него это, скорее, был своего рода курс человековедения. Поначалу он считал Коузи самым обычным толстосумом. По крайней мере, так о нем отзывались люди, и он сорил деньгами направо и налево, словно в оправдание общепринятого мнения. Но после многих совместных рыбалок в течение года или двух Сэндлер стал видеть в богатстве Коузи не дубину в руках расчетливого дельца, а игрушку сентиментального мужчины. Да, богатые умеют действовать как акулы, но движет ими детская любовь к сладенькому. Детские мечтания, которые могли расцвести пышным цветом только на лугах девчачьих грез об обожании, покорности и бесконечных забавах. Вида считала, что с портрета над стойкой портье на нее взирает всесильный и щедрый друг. Но это потому, что она не знала, на кого именно он взирает…
Сэндлер поднялся по лестнице из подвала. Идея досрочно выйти на пенсию, к чему его когда-то принудили, в тот момент показалась ему здравой. Ночные обходы в торговом центре давали отдохновение разуму, не замедляя бег мыслей. Не притупляя мозг. Но теперь Сэндлер часто задумывался, не поражен ли его мозг каким-то недугом, который он раньше не брал в расчет, потому что в последнее время он все больше и больше зацикливался на своем прошлом, а не на настоящем. Когда он вошел в кухню, Вида складывала выглаженную одежду и подпевала какой-то кантри-блюзовой мелодии, лившейся из радиоприемника. И, возможно, вспомнив глаза, напоминавшие треснутое стекло, а не глаза с портрета, он обхватил жену за плечи, развернул к себе и, крепко прижав к груди, закружил в медленном танце.
А может, девчачьи слезы куда хуже, чем причина, заставившая их пролить. Может, они были признаком слабости, которую заметили окружающие и заявили о ней еще до того, как он дал оттуда деру. Еще до того, как у него вдруг все похолодело в груди при виде ее нелепо вывернутых вниз рук, стянутых белоснежными шнурками. Эти руки можно было принять за пару варежек, нелепо болтающихся на бельевой веревке – будто какая-то потаскушка, которой наплевать, что скажут соседи, нагло протянула веревку через весь двор. И сливовый лак на обгрызенных до кожи ноготках придавал этим похожим на варежки крошечным рукам вид рук взрослой девушки, что и заставило Ромена подумать о ней как о потаскушке, которой наплевать на то, что о ней могут подумать…
Он был следующим в очереди. И уже был внутренне готов – несмотря на жалкий вид этих связанных рук и кошачье хныканье, клокочущее у нее в горле. Он стоял около спинки кровати, завороженный громкими стонами Тео, чья голова ритмично моталась взад-вперед над девочкой, которая отчаянно извивалась, отвернув к стене лицо, скрытое под упавшими на него растрепанными волосами. Он уже расстегнул ремень и сгорал от предвкушения, готовый стать наконец тем самым Роменом, которым он себя всегда рисовал в воображении: крутым, опасным, отвязным. Он был последним из семерых. Трое, как только кончили, выбежали из комнаты, на выходе победно вскинув пятерни, и быстро смешались с участниками шумной вечеринки. Фредди и Джамал, хоть и обессиленные, остались сидеть на полу и продолжали наблюдать за Тео, который начал первым, а теперь пошел по второму кругу. На этот раз он не спешил, и его постанывание было единственным звуком, потому что девочка теперь перестала хныкать. Когда он отлепился от нее, пахнуло лежалыми овощами, гнилым виноградом и мокрой глиной. В комнате повисла звонкая тишина.
Ромен шагнул вперед сменить Тео, а потом удивленно заметил, что его руки сами собой схватились за спинку кровати. Узел шнурка, стягивавшего ее правое запястье, развязался, как только он до него дотронулся, и ее рука бессильно упала на подушку. Она так и осталась лежать, и девочка не стала ею ни отбиваться, ни царапаться, ни убирать волосы с лица. Ромен отвязал вторую руку, которая все еще была крепко стянута шнурком от кроссовок. Потом завернул девочку в покрывало, на котором она лежала, и рывком усадил. Он поднял с пола ее розовые кожаные туфли на высоких каблуках с ремешками крест-накрест спереди – обувка ни на что не годная, кроме как для танцев да форса. И тут услыхал лающий смех – это сначала, а за ним последовали грубые шуточки и гневные возгласы, но он выволок ее из комнаты и, протащив сквозь толпу танцующих, вывел на крыльцо. Дрожа всем телом, она вцепилась в протянутые ей туфли. Если до этого они оба и были пьяны, то сейчас опьянение прошло. Холодный ветер их протрезвил.
Он попытался вспомнить имя девочки – то ли Фэй, то ли Фэйт, и уже собрался что-то ей сказать, как вдруг самый ее вид стал ему противен. Если бы она начала его благодарить, он бы ее просто придушил. К счастью, она не проронила на слова. Глядя в пустоту широко раскрытыми немигающими глазами, она надела туфли и разгладила юбку. Их верхняя одежда – его новая кожаная куртка и что там было на ней – осталась в доме. Тут дверь распахнулась, и на порог выбежали две девчонки, одна с ее пальто, другая – с сумочкой.
– Притти-Фэй, что случилось?
Ромен развернулся и двинулся прочь.
– Что с тобой, девочка моя? А ты! Ты что с ней сделал?
Тот продолжал шагать.
– А ну вернись! Он тебя обидел? А кто? Кто? Что с твоими волосами? На-ка, надень пальто, Притти-Фэй! И скажи хоть что-нибудь!
Он слышал их злобные встревоженные крики, бившие по ушам, как перезвон медных тарелок, словно аккомпанемент короткому и хлесткому, как визг трубы, слову, которым Тео обозвал его: хуже прозвища не придумаешь! Одно-единственное слово, которое звучало, повторяемое эхом, и уж коли оно вырвалось, его теперь можно заглушить только выстрелом. А иначе не покончить с ним – оно прилепится к нему на всю жизнь.
Последние три дня над ним издевались все кому не лень. Всех своих так легко завоеванных друзей – они дружили уже четыре месяца – он растерял. И теперь, встречаясь глазами с любым из шестерых, не считая Фредди, он словно бросал им вызов или приглашение, и даже когда он не смотрел на них и не ловил их взгляды, в том трубном визге слышалось его имя. Они собирались без него у школьной ограды и как по команде вставали из-за столика в забегаловке «Патти», если он садился рядом. Даже самые падкие на флирт девчонки почуяли его новый статус изгоя, как будто его одежда и обувь вдруг стали позорными: футболка слишком белой, штаны слишком отутюженными, а кроссовки завязаны сикось-накось.
На следующий день после той вечеринки, никто не помешал ему появиться на баскетбольной площадке, но, когда он вступал в игру, никто не передавал ему мяч, и если он перехватывал чужой пас, ему приходилось, в какой бы точке площадки он ни находился, самому забрасывать мяч в корзину, потому что никто из игроков не выражал готовности принять от него пас. Все опускали руки и просто смотрели. И стоило ему послать кому-то мяч с отскоком от земли, никто его не ловил, и в воздух взлетал трубный плевок того слова, и было непонятно, кто его выкрикнул. В конце концов ему сделали подножку, после чего все молча ушли. А Ромен так и остался сидеть на площадке, тяжело дыша, готовый ринуться в драку с любым, при этом понимая, что стоит ему ответить на грубость, на подножку, на выкрикнутое оскорбление, это будет выглядеть как его очередная попытка вступиться за ту девчонку. Которую он не знал, да и не желал знать. Если бы он дал обидчику сдачи, ему бы пришлось драться не за себя, а за Притти-Фэй, чем бы он и доказал, что между ними есть какая-то связь – а ведь это не так! Будто он и она оказались оба привязанными к той кровати, будто кто-то силой заставил их обоих раздвинуть ноги.
Лукас Брин, один из белых мальчишек, чья точность бросков в корзину вызывала всеобщую зависть, в одиночестве водил мяч в углу площадки. Ромен поднялся и отправился составить ему пару, но вовремя осознал, что в репертуаре его врагов есть еще одно обидное слово. И он прошел мимо Лукаса, пробурчав чуть слышно: «Привет!»
На второй день он чувствовал себя еще более несчастным и одиноким. Фредди отдал ему забытую в том доме куртку со словами: «Слышь, мужик, не парься!» – но больше не сказал ничего и быстро ушел. А после того как ему через окно школьного автобуса помахали две подружки Притти-Фэй, те самые, которые вынесли ей на крыльцо сумочку и пальто, он стал добираться до школы рейсовым автобусом. Он без колебаний смирился с неудобством шагать две мили пешком до и от остановки, чтобы избежать возможности снова увидеть Притти-Фэй. Он ее так и не увидел. Как не увидел ее больше никто.
На третий день его избили. Все шестеро, включая Фредди. Избили умело. Нанося удары везде, кроме лица, на всякий случай – а вдруг он еще и стукач, который с радостью наябедничает, кто ему разбил губу или поставил фингал под глазом. Ведь если начнутся расспросы дома, этому плаксе хватит храбрости указать своим дрожащим пальчиком на них. На всех шестерых. Ромен дрался классно. Поставил одну или две шишки, засадил коленом в пах, порвал чью-то рубашку, пока ему не заломили руки за спину в попытке сломать ребра и одновременно надавить на живот, чтобы вызвать рвоту. Последнее им почти удалось, но тут проезжавшая мимо машина несколько раз просигналила. Драчуны бросились врассыпную, вместе с ними и Ромен, который бежал, согнувшись и обхватив живот, больше опасаясь, что к нему придут на помощь, чем упасть без сознания в перепачканных блевотиной джинсах. Его вырвало за кустом мимозы в рощице позади закусочной «Патти». Увидев извергнутые на траву остатки приготовленного бабушкой завтрака, он задумался, забудется ли когда-нибудь его позор. Его не обидели ни издевки Тео, ни презрение Фредди, он заслужил и то, и другое, но он просто не мог понять, что с ним тогда случилось, почему он в тот момент дал слабину и почему его сердце бешено забилось от сострадания к раненому зверьку, за мгновение до того казавшемуся ему желанной добычей, в которую он был готов вгрызться. Если бы он нашел ее на улице, его реакция была бы точно такой же, но когда это произошло при всех, на глазах у его друзей, вместе с которыми и он заволок ее в ту комнату, – вот дерьмо! И что заставило его отвязать ее, прикрыть? Боже ты мой! Прикрыть ее покрывалом! Поднять на ноги и вывести оттуда! Что? Маленькие, похожие на варежки руки? Размеренно содрогавшиеся над ней голые зады парней – один за другим, один за другим? Гниловатый овощной запах, смешавшийся с грохочущей из-за двери музыкой? Когда он, обняв девочку за плечи, выводил ее из комнаты, он был все еще возбужден, но эрекция исчезла, как только они вышли вдвоем на холод. Что же его заставило так поступить? Или точнее – кто?
И он знал кто. Это был настоящий Ромен, который обломал кайф крутому, опасному и отвязному парню. Фальшивого Ромена, нависшего над чужой кроватью с незнакомой девчонкой, перехитрил Ромен настоящий, который и был там главный и теперь заставил его, лежащего в собственной кровати, сунуть голову под подушку и пролить девчачьи слезы. Но в ушах по-прежнему звучал визг трубы.