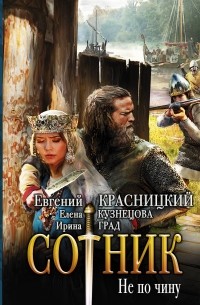Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава 3
Идея была проста: пока княгиня возится с боярыней Соломонией, подкатиться к детишкам; ну не посмеют няньки противиться. Угостить лакомством, успокоить, мол, никому больше в обиду не дадим, скоро домой отвезем; потом развеселить как-нибудь – ведь получалось же с Нинеиными внучатами. Услышит княгиня Агафья детский смех, увидит довольные мордашки, глядишь, и разговор с ней по-доброму сложится. Какая бы она ни была крутая княгиня-соправительница, а мать есть мать – дети важнее всего.
Было, конечно, в этом что-то… некрасивое – использовать детей в своих целях, но самим-то детишкам от этого никакого вреда. Вот только голос… Мотькино полоскание и то ли компресс, то ли просто теплая повязка согрели горло, и Мишке немного полегчало; во всяком случае, говорить, хоть и совсем негромко, он мог почти без саднящей боли.
Все планы порушила «то ли княжна, то ли не княжна»: выбралась из дома, боязливо покосилась на Дмитрия, который раздавал какие-то указания отрокам, и подалась к Мишке.
– Пан Лис…
– Слушаю, княжна… прости, – Мишка притронулся к повязке на горле, – не могу в полный голос говорить.
– Я не княжна.
«Ну вот, облом… Впрочем, может, и к лучшему. Но почему все-таки «пан Лис?»
– И я не пан, и не Лис. Боярич Михаил, – Мишка вежливо склонил голову, – сотник Младшей дружины Погорынского войска. Прости, не знаю, как величать тебя, красна девица.
– Не Лис? Ой, боярышней Евдокией зовусь, – девица ответно поклонилась и указала на щит с изображением «лиса, несущего сияющий крест». – А как же это? Наставник наш отец Паисий сказывал, что есть у ляхов боярин, нечистого зверя на своем знамени имеющий. Вот я и подумала…
– Ну почему же нечистого? В Писании в «Пророчестве о Вавилоне» вовсе и не лисы упомянуты, а шакалы. Просто ошибка при переводе с греческого на наш язык произошла, шакалы-то у нас не водятся, вот и написали «лисы», а на самом деле там так сказано, – Мишка, в который уже раз, мысленно поблагодарил отца Михаила за науку, – «Шакалы будут выть в чертогах их, и гиены – в увеселительных домах».
– Ошибка?! В Писании?!!
Удивление и возмущение Евдокии оказались настолько велики, что Мишке невольно вспомнилась старшеклассница из фильма «Завтра была война»: «Как можно спорить с самим Маяковским?!!»
«Вот так, сэр Майкл, века и тысячелетия проходят, а девочки-отличницы не меняются! Меняются только непререкаемые авторитеты: у этой – Писание, у той – Маяковский, а у постсоветских, наверное, Солженицын… Или у них какой-нибудь гламурный журнал вместо Писания? Хочешь не хочешь, а вспомнишь: “Не сотвори себе кумира”».
– Да не в Писании ошибка, а толмач переврал. Или постарался, чтобы нам, про тех шакалов не ведающих, понятнее было. Так что не пан Лис я и не лях вовсе. Туровские мы.
– А как же… ведь отец Паисий сказывал… и Лис у вас намалеван…
«О, Господи! Ну, девки… порожденья крокодилов! Вот так и поймешь, почему Пушкин был противником женского образования».
– Я тебе, боярышня, потом объясню, прочему у нас лис на щитах. Тебя ведь с делом каким-то ко мне послали?
– Ой, да! Княгиня Агафья Владимировна велит вашему старшему к ней явиться.
– Ну, велеть она может… Гм, ладно. Передай, что скоро буду.
– Она велела немедля!
– Угу. Как только, так сразу.
– А? – не поняла Евдокия.
– Скажи, что внял и не замедлю явиться пред княгинины очи. Только вот нужные распоряжения отдам и сразу приду.
– Княгиня Агафья… – начала было снова боярышня, но Мишка набычился и, уставившись ей в глаза, шевельнул искалеченной бровью.
– Ступай. Передай княгине, что прибуду немедля, как смогу!
Девица, кажется, обиделась: поджала губы, вздернула подбородок и, развернувшись на месте, засеменила к двери. Ну, прямо тебе оскорбленное достоинство во плоти. Мишка чуть не сплюнул вслед. Знаком подозвал к себе ближайшего отрока и велел сыскать Елисея и Елизара, чтобы бросали все и бежали к нему.
Пока дожидался близнецов, отроки Артемия вытолкали из дома какого-то мужика с разбитой в кровь мордой и в разрезанной от ворота до рукава одежде. В прорехе виднелась кровавая полоса на теле: похоже, кто-то пытался перехватить ему горло ножом, но то ли не дотянулся, то ли сам мужик успел отшатнуться…
– Артю… – Мишка поумерил голос, – Артюха, это еще что за диво?
– Лях, под лавкой схоронился, где раненые лежат. Там угол темный, ну вот он, видать, и… того. Вон, гляди! – Артемий указал на разрез на одежде мужика. – Зарезать его, похоже, хотели, да вывернулся как-то. Ну, а морду… это уже мы, чтобы не рыпался.
– Ладно, с ним потом разберемся. Вы там хорошо все посмотрели, больше никто по темным углам не прячется?
– Нет, Минь, все проверили. Там только княгиня со своими да раненые… Все без памяти, а один уже помер, – Артемий обмахнул себя крестным знамением. – А княгиня-то грозна… раненых велит наружу выкинуть, все равно, мол, помрут… а еще про тебя спрашивала: кто, да что, да откуда?
– И что ты?
– А что я? Ты же не говорил, что можно рассказывать, а чего нельзя, вот я пеньком и прикинулся: мне велено только дом от посторонних очистить, а потом господин сотник сам придет и все, что надо, скажет.
– А она?
– Сердитая… даже вроде бы кинуться в меня чем-то хотела, да под руку ничего не попалось.
– Господин сотник, отроки Елизар и Елисей по твоему приказу явились!
«Ну, прям Электроники! И такие же белобрысые… Ладно, придется изображать господина сотника со свитой».
– Вольно, отроки! – Близнецы дружно приоткрыли рты, то ли удивляясь тому, как тихо говорит начальство, то ли прислушиваясь. – Быстренько почиститесь, приведите себя в благообразный вид, шлемы снимите… гребешки с собой?
– Нет, господин сотник, в сумке у седла. Сбегать?
– Артюш, а у тебя гребешка с собой, случайно, нет?
– Есть, – Артемий полез в кошель, висящий на поясе.
– Дай им причесаться, а ляха этого держи под присмотром, потом поспрашиваем. Только сам не уходи, впереди пойдешь, вроде как дорогу мне показываешь.
– Теперь вы, – Мишка принялся инструктировать причесывающихся и отряхивающихся отроков. – Подшлемники уберите… ну вот, хотя бы в подсумки. Шлемы держать на согнутой руке вот так. Помните, что я вам говорил на Княжьем погосте? Сейчас пойдем к княгине Городненской, так что ведите себя благообразно. Стоять по бокам от меня и чуть позади. Я поклонюсь – и вы кланяйтесь, я на колено опущусь – и вы так же, как и я. В разговор не встревать… впрочем, вежество вы и сами понимаете. Так, причесались? Ну-ка дай мне гребень.
Мишка поправил прически близнецам и принялся причесываться сам.
– Артюш, как я выгляжу?
– Красавец! Хоть под венец!
– Поскалься-поскалься у меня… вот в ухо-то заеду. Серьезное дело – с княгиней беседовать идем.
– А что? Еще и лучше! Вдруг она красотой твоей несравненной прельстится?
У Мишки Артюхины шуточки ничего, кроме злости, не вызвали, а тут еще кто-то из близнецов фыркнул по поводу комплимента внешности сотника.
– А то! Кхе-кхе-кхе-е… – Мишка позабыл о сорванном голосе. – Егора убили! А ты мне тут…
– Что?! – ухмылку с лица поручика как ветром сдуло. – Как же мы теперь?..
– А вот так! Самим все придется, ни подсказать, ни удержать от дури некому. Дожили до светлого денечка, вольные птицы теперь… Что, нравится тебе такая воля?
Не дожидаясь ответа от растерявшегося Артемия, Мишка обернулся к близнецам.
– Ты, Елисей… – поправки не последовало, значит, угадал имя в этот раз правильно, – видишь, у меня с голосом беда? Так что, если княгиня плохо расслышит, станешь повторять сказанное мной громко и явственно. Понял?
– Так точно, господин сотник!
Мишка снова обернулся к Артемию, собираясь отдать команду, но запнулся – недавней растерянности в лице, позе и движениях поручика не осталось и в помине: Артюха был строг, сосредоточен и торопливо оправлял на себе пояс, сдвигал на место подсумки, даже попробовал, как выходит из ножен кинжал. Одним словом, демонстрировал полную готовность к любому повороту событий. Жестом указав отрокам, сопровождавшим пленного ляха, отвести того в сторону, он обернулся к Мишке, принял стойку «смирно» и осведомился:
– Прикажешь вести, господин сотник?
«Ну, парень-гвоздь! На всех бы так свалившаяся ответственность действовала!»
– Веди. Елизар, Елисей, идти в ногу, по сторонам от меня и на шаг позади!
К разговору с княгиней Агафьей Мишка готовился заранее, так же как и к разговору с князем Всеволодом Городненским, но получалось это заметно труднее. О князьях Мишка, худо-бедно, некоторое представление имел. Пусть превратное, пусть никак не связанное с его собственным жизненным опытом, а сформированное исторической литературой, как художественной, так и специальной, но имел. Кроме этого, имелся еще и некоторый опыт общения с мужчинами во власти: партаппаратчиками, чиновниками, секретарями обкома, членами ЦК КПСС, министрами ельцинской РФ, депутатами различных уровней. Да, никто из них не был потомственным аристократом, но все-таки власть. А вот с женщинами…
ТАМ Михаил Ратников был знаком с женщиной – секретарем Ленинградского обкома КПСС, а в депутатские времена довелось пообщаться и с главой «Женской партии», и с лидером Демроссии, и еще с несколькими «карьерными дамами». Из этого общения он вынес твердое убеждение: «женщины во власти» отличаются от женщин обыкновенных по меньшей мере двумя особенностями. Первое: чтобы достичь таких же карьерных результатов, что и мужчина, женщине надо знать минимум вдвое больше, а сил затратить, наверное, вчетверо больше. Второе: в пиковых ситуациях «женщины во власти» не склонны к панике или истерикам и не ищут возможности спрятаться за мужскую спину – справляются сами, демонстрируя твердость и здравомыслие на зависть многим мужикам; при этом чисто женские приемы используют не эмоционально, а расчетливо, как весьма действенный инструмент. Однако экстраполировать эти знания на княгиню Агафью?
Во-первых, никакой карьеры она не делала: все, как и положено аристократке, досталось ей по праву рождения. Это позволяло предположить, что, не пережив тех унижений и трудностей, которые приходятся на долю сделавших успешную карьеру женщин, она не превратилась в законченную стерву, мстящую всем окружающим за пережитое.
Во-вторых, не должно бы у княгини быть того страха, который преследует «карьерных» женщин – страха в одночасье потерять все, что достигалось долгими годами. Не могут Рюриковну выкинуть и забыть, не посмеют подонки, ранее лебезившие перед ней, отыгрываться за прежние обиды и собственную зависть, тешить свои комплексы за счет проигравшей, да и не посмеют ее «убрать», как ненужного свидетеля, те, кто удержался наверху. Да, этого всего прирожденная аристократка или совсем не опасалась, или опасалась гораздо меньше, чем выбившиеся наверх карьеристки.
Могла, конечно, Агафья овдоветь, могла лишиться городненского стола, могли с ней произойти и другие неприятности, но братья Мономашичи, да и другие Рюриковичи, оберегая свой статус, и ей не дали бы скатиться на самое дно. И даже если жестокая судьба загнала бы ее за монастырские стены, все равно жизнь у нее оказалась бы легче, чем у рядовых послушниц или монашек. Из этого обстоятельства следовало, что право повелевать представлялось Агафье естественным, не вызывающим сомнений, равно как и иные привилегии аристократки, которые она могла потерять только вместе с жизнью.
«Но эта железобетонная уверенность в своих правах при определенных условиях из плюса легко может превратиться в минус. И ваша, сэр Майкл, задача – эти условия создать».
Соответственно строились и ее отношения с мужчинами: только очень немногим она должна была подчиняться (и то многое зависело от обстоятельств), большинство же ОБЯЗАНО подчиняться ей. Или хотя бы выказывать почтение и готовность к повиновению. То есть в случае опасности вопрос «прятаться ли за мужскую спину или справляться самой» перед Агафьей просто-напросто не стоял – ее обязаны защитить! Иными словами, Мишка со своими отроками, освободив княгиню из плена, вовсе не оказал ей никакого благодеяния, а просто выполнил свой мужской и служилый долг.
Нет, какую-то награду он, конечно же, заслужил, но…
«М-да, сэр, и опереться-то, кроме художественной литературы, вам не на что. Обидно, конечно, но не досадовать же, подобно дону Румате Эсторскому, на отсутствие в учебной программе курса придворной интриги? «За неимением гербовой…», как говорится…
Что там у нас первым делом приходит в голову? Анна Австрийская? Не натуральная, разумеется, а из романа «Три мушкетера». Ну что ж… д’Артаньян, когда притащил ей из Англии подвески, что получил? Именно! Перстень с бриллиантом, причем не лично, а через камеристку. А граф де Ла Фер, когда намекнул, что сопровождал своего друга в Англию? Совсем другое дело! Никакого «материального поощрения», но удостоился приватного разговора и получил испрашиваемую помощь!
В чем разница? А в том, что д’Артаньян всего лишь нищий безбашенный гасконец, для которого предел мечтаний – место рядового мушкетера, а граф де Ла Фер – аристократ, которому и офицерского патента в том же мушкетерском полку недостаточно. Так кем же вы, сэр, хотите нарисоваться перед княгиней Городненской – д’Артаньяном или Атосом? Ах да! Пардонэ муа, по возрасту вы тянете не более чем на виконта де Бражелона, но ведь все равно, разница-то существенная!
Итак, если вы собираетесь изобразить из себя, как выражался незабвенный профессор Выбегалло, «шевалье де сан пер э сан репрош», придется и перед княгиней светить свое родство с Рюриковичами, никуда не денешься – средневековье-с! Однако делать это надо не так, как с князем Всеволодом – «я роду не худого, и не надо со мной, как со смердом обращаться», а изобразить из себя «юного Атоса»: «Поступаю так, как предписывает мне мой статус, и никто, даже сюзерен, не может требовать от меня иного».
Что положено Атосу, то д’Артаньяну не светит. В переводе на язык родных осин, сэр: «Забудьте о выкупе, но позаботьтесь о таких вроде бы эфемерных, но весьма существенных категориях, как связи и положение».
Вот и цель переговоров обрисовалась: добиться появления в информационном поле Мономашичей (ну, хотя бы одного только Вячеслава Туровского) такой фигуры, как боярич Михаил, которому как-то неудобно подать «рупь на водку», а затем забыть о его существовании. Риск? Несомненно: возле князей – возле смерти. Но стартовая позиция очень нехреновая, а это – ресурс, да еще какой! Правда, возраст… но, как говорят мастера единоборств: «Если ты выше противника ростом, это преимущество, а если ты ниже противника ростом, то это тоже преимущество!»
«Помимо всего прочего, уважаемый сэр, не забывайте, что княгиня тоже управленец, причем очень не хилого уровня. В привычных вам терминах она, конечно, не мыслит, но это не повод сбрасывать со счетов ее профессиональные навыки. А посему озаботьтесь, чтобы все сигналы, которые она будет получать от вас на протяжении разговора, читались ею совершенно недвусмысленно. Агафья должна быть стопроцентно уверена, что вы – живой и невредимый на посту сотника Младшей стражи – ей гораздо выгоднее, чем вы же, но посаженный в поруб в Городно или прирезанный втихаря кем-нибудь из княжеских спецов «по особым поручениям».
Отсюда и соответствующая стратегия разговора. С князем, конечно, пришлось проще: пугнуть, выдвигая на передний план его беспомощность раненого пленника и попутно напустив мистического тумана, а потом, пока у него «кипит разум возмущенный», натолкнуть на нужные мысли, которые тот посчитает своими. С княгиней же посложнее…
С женщинами вообще сложнее, а тут ведь требуется не только добиться своего, но и заслужить хорошее отношение. Ни красота (хотя какая красота с вашей-то рожей, сэр, да еще на фоне Елисея и Елизара), ни ум, ни обаяние, ни элегантность с куртуазностью тут не прокатят. Женщине во власти нужны: первое – полезность, второе – предсказуемость и управляемость, чтобы этой полезностью можно было воспользоваться.
Значит, никакой мистики, никаких непоняток. Открыто и прозрачно: восторженный пацан, воображающий себя «рыцарем в сверкающих доспехах», распираемый гордостью от того, что он боярич, родственник правящей династии и сотник в четырнадцать лет, но (НО!), при этом ничуть не сомневается в своих аристократических правах, так же как и княгиня Агафья; правах поскромнее, чем у князей, но столь же непреложных».
Вот такого «бойцового петушка» княгиня поймет и примет в полной уверенности, что сможет крутить им, как ей заблагорассудится. Вот о таком Агафья в разговоре с братьями отзовется снисходительно-доброжелательно, а в разговоре со снохой – Ольгой Туровской – даже могут дуэтом и похихикать, мол, забавный зверек, и приручить его полезно.
«Ну, что ж, сэр, глаза горят, усы, несмотря на их отсутствие, топорщатся, шпоры, которых тоже нет, звенят. Вперед!»
Дом и внутри был таким же непонятным, как и снаружи. Видно, когда-то его разгородили на множество клетушек, но сейчас перегородки то ли сломали, то ли они сами развалились, во всяком случае, прямо у входа свободного места хватало. Посреди помещения располагался длинный очаг, примерно такой, какие Мишка видел в кинофильмах о викингах. Дальний конец дома был все же отгорожен; кажется, несколько выгородок все-таки уцелели – от входа не разобрать.
Мишка в сопровождении «пажей», на ходу, чтобы привести себя в надлежащее состояние, повторял, как мантру, слова Нинеи: «Ощути себя наследником древнего рода, продолжателем дел славных предков, частицей великого народа славянского, внуком Божьим…»
Княгиня Агафья сидела на чем-то, покрытом шкурой, кажется, лосиной, прямо под раскрытым волоковым окошком так, что ее лицо оставалось в тени, а находящийся перед ней собеседник оказался бы весь на свету.
«Угу, приготовилась. Знаем мы эти штучки».
Артемий, заскочивший вперед, сначала сверхпочтительно произнес:
– Изволь сюда пройти, господин сотник, – потом прямо-таки возгласил на манер мажордома: – Сотник Младшей дружины Погорынского войска боярич Михаил сын Фролов из рода бояр Лисовинов!
Мишка с близнецами, четко печатая шаг, дошел почти до самого торца очага, остановился, акцентированно приставив каблук к каблуку, затем, прямо как на плацу, изобразил полуоборот направо. Близнецы следовали за ним, точно копируя движения. Какой-нибудь старшина-строевик, возможно, даже умилился бы от такой слаженности – прямо-таки не строевой экзерсис, а музыкальная фраза в исполнении трио виртуозов!
Выждав пару секунд, Мишка опустился на левое колено – на сгибе правой руки шлем, ладонь левой руки на рукояти меча не позволяет кончику ножен коснуться пола; на мгновение склонил голову, почти прижав подбородок к груди – сделать это как положено помешала повязка на горле, потом, глядя в упор на княгиню, произнес:
– К услугам вашей светлости!
– Что?
Не то чтобы Агафья не расслышала Мишкиных слов – в доме было тихо, но слишком уж необычным оказалось обращение. Елисей же понял ситуацию по-своему и, в полном соответствии с полученными инструкциями, громко повторил:
– К услугам вашей светлости!
Не дожидаясь ответа, Мишка, а с ним и близнецы, поднялся на ноги. Княгиня некоторое время озадаченно помолчала, а потом, видимо выполняя заранее продуманный план, грозно вопросила:
– Почто вежество не блюдешь, земно не кланяешься?
– Воинское коленопреклонение вежеством земному поклону не уступает, однако, если вашей светлости угодно…
Мишка склонился в поклоне так, что если бы не были заняты руки, сумел бы коснуться пальцами земляного пола. Вместе с ним склонились и близнецы, а Елисей, еще не успев выпрямиться, начал:
– Воинское коленопреклонение…
– Да слышу я, слышу, не глухая!
Агафья отмахнулась, как от надоедливой мухи, и Елисей умолк на полуслове.
– Ты как меня назвал?
– Издавна у славян князья именуются светлыми, отсюда и светлость. Обращение же на «вы» есть сугубое вежество, надлежащее при разговоре с тем, кто владеет правом говорить не только от себя, но и от множества своих подданных. Посему – ваша светлость.
– Хм… – княгиня явно не нашлась, как реагировать на Мишкин пассаж, шевельнулась, усаживаясь поудобнее, набрала в грудь воздуха… – Да ты… вежеству меня учить вздумал, сопляк?!
«Ага, решила все-таки придерживаться скандального тона. Видимо, думает, что придется торговаться насчет размеров выкупа, и пытается заранее давить на психику».
– Как можно, ваша светлость? Веду себя так, как наставники учили.
– М? Какие такие наставники?
«Ну что, мадам, не получается скандальный тон выдерживать? А как вы себе думали? «Удивить значит победить»! Сейчас я вам еще одну загадочку подкину».
– Воевода Погорынский боярин Кирилл Лисовин, посадник княжий боярин Федор, иеромонах Туровской епископии Илларион, богемская графиня Палий… Люди все уважаемые в искусстве вежества, а также в куртуазных правилах весьма искушенные!
«А вы, мадам, хоть и пребываете ныне в статусе вроде жены председателя райисполкома в медвежьем углу, в столице-то обитали, да и по-польски трындите, как я заметил, без проблем. Следовательно, о европейской куртуазности хотя бы слыхали, хоть краем уха. Зря, что ли, я богемскую графиню приплел? Ну что, и дальше будете городничиху изображать?»
Агафья оказалась бабой упертой (недаром же соправительница при муже) и после небольшой паузы, снова слегка поерзав, опять попыталась наехать на Мишку, но теперь с другой стороны:
– Ты о чем думал, молокосос?! А если бы твои стрелки в кого-то из детей попали?
– Не попали бы. Стрелки у меня хорошие, некоторые даже на звук…
– Да плевала я, какие у тебя стрелки! Ты детьми рисковал!! Княжьими!!!
– Не было риска, ваша свет…
– А если бы попали?
– Но не попали же, даже близко…
– А если бы все же попали?
А вот это надо было уже прекращать, причем самым решительным образом. Еще ТАМ Мишка убедился, что вот таким «если бы» собеседника долбят либо при отсутствии других разумных аргументов, либо провоцируя на опрометчивый, чреватый серьезными неприятностями ответ. Тут есть только два выхода: либо юлить и выкручиваться, либо ответить так, чтобы вопрошающему тошно стало. Юлить и выкручиваться Мишка не собирался – не та ситуация.
– А если бы хоть в одного ребенка попали, я бы приказал перебить вас всех, а потом свалил бы все на полочан или ляхов. Да и вообще: кто знает, что мы тут были? Покойники – люди неразговорчивые!
«Хватит пар в свисток выпускать, пора переходить к делу. Рискованный, конечно, шаг, но как промежуточный посыл в нужном направлении он должен сработать, а негативные тенденции потом выправим…
Атос, конечно, себе такого никогда бы не позволил, но куда денешься, жизнь – не литература».
Наверное, если бы Мишка еще раз дал княгине по затылку, она и это перенесла бы легче, чем то, что он сказал. Агафья хватала воздух широко разинутым ртом, будто ее окатили ушатом холодной воды, а Мишка уставился на нее исподлобья и в придачу двинул искалеченной бровью – он давно уже выяснил, какая у него от этого делается рожа. И тут княгиня испугалась. Вовсе не потому, что Мишка выглядел так уж страшно (куда ему до Бурея!), и не потому, что вместе с детьми попала из одних чужих рук в другие; не чужаки ведь – полочане или ляхи, а туровские – подданные ее родного брата. Все было проще, но куда опаснее – она оказалась в руках мальчишек!
Поведение взрослого человека с той или иной долей уверенности можно предвидеть, намерения понять, свои слова и действия как-то подо все это подстроить, а представить себе, что может в следующую минуту торкнуть в мозги подростку… Да он и сам не представляет! А подростки-то в доспехах и при оружии, и только что вполне уверенно расправились с похитителями княжеской семьи! И они, как успела заметить Агафья, беспрекословно подчиняются вот этому бояричу Михаилу, который старательно играет в благородного рыцаря, скорее всего выдуманного им самим на основе рассказов наставников.
В том, что это именно игра, сомневаться не приходилось – женский, да еще и княжеский глаз не обманешь! А ну как наскучит мальчишке игра или пойдет не так, как ему хочется? Возьмет, да и поломает игрушки по злобе или подростковому легкомыслию. Но игрушки-то – живые люди: сама Агафья, дети ее, прочие пленники! А он… ишь, как рожу-то покривил… сейчас как кликнет своих щенков, так стаей и накинутся…
Не то чтобы Мишка читал на лице Агафьи все эти мысли – княгиня все-таки, лицом владеть умеет – но примерно догадывался, а следующая фраза собеседницы его догадки подтвердила:
– А взрослый-то кто-нибудь с вами есть?
«У-у, матушка, там перед домом ты, видать, совсем с перепугу обалдела – даже не заметила, как мимо Егор со своими людьми проскакал! Ну, тем лучше».
– Был, ваша светлость. Десятник Старшей дружины Егор приставлен к нам воеводой Погорынским для надзора и поучения. Он с тремя десятками моих отроков за вашими обидчиками погнался, что на ладье сбежать вознамерились. Только что гонец оттуда прискакал. Ладью, на которой вашу светлость тати захватили, отбить удалось, но сам десятник Егор при этом погиб. Царствие ему Небесное и вечная память, искусный был воин и наставник мудрый.
Мишка перекрестился, княгиня тоже, но было заметно, что мысли ее далеки от чего-либо возвышенно-божественного.
«Вот такая, княгинюшка, заковыристая ситуевина: надзирать за нами больше некому, придется как-то выкручиваться самой. Ну, мадам, напрягите то место, которым думаете! Вы же зрелая женщина, мать нескольких детей, аристократка, в конце концов! Неужели пацана вокруг пальца обвести не сможете? Дерзайте, Ваша Светлость, клиент сам в руки упасть готов. Ну же! Если до вас, наконец, дошло, что вы имеете дело с кучей мальчишек, уже попробовавших крови, а их вожаку нравится играть в благородного рыцаря, у вас только один надежный и почти беспроигрышный ход – подыграть ему».
Агафья, похоже, пришла к тому же выводу, а может быть, вовсе не анализировала ситуацию так, как представлялось Мишке, а принялась действовать на основе женской интуиции и впитанных с детства правил поведения при княжеских дворах. Она окинула взглядом Елисея с Елизаром (кажется, впервые взглянув на них внимательно), чуть заметно шевельнула губами, видимо, оценив их благообразие и одинаковость, и повелела:
– Найдите-ка, ребятки, на что вашему сотнику присесть.
Близнецы и не подумали шевелиться, пока от Мишки не последовало негромкое: «Исполнять» – потом сунулись туда-сюда и выволокли из угла грубую и весьма непрезентабельного вида скамью. Пристроили ее напротив княгини, впритык к очагу и сами замерли возле ее концов.
– Присядь, боярич Михаил, – в голосе Агафьи не осталось и намека на скандальность.
«Браво, сэр Майкл! Ее светлость изволили принять условия игры! Только не вздумайте вообразить, что вы уже выиграли. На вашей стороне знание галантной обходительности, начиная с рыцарских романов и кончая анекдотами о поручике Ржевском, а на ее – княжеское воспитание и опыт управления, да не просто управления, а совместно с мужем. Она годами училась мужиками вертеть. Так что бдительность и еще раз бдительность!»
Мишка, стараясь держаться как подобает наследнику древнего рода, но не выглядя при этом «словно аршин проглотил», опустился на скамью (она, зараза, еще и шаталась), поставил ножны около левой ноги и положил ладонь на оголовье рукояти оружия. Агафья – вроде бы незаметно, но Мишка засек – следила за его манипуляциями с мечом.
«Ага, пытается понять, насколько вы привычны к оружию, сэр Майкл, и не только в бою, а вот так – «партикулярно»: не зацепитесь ли за что-то ножнами, легко ли сможете принять достойную позу. Хорошо, что не сразу заметил ее взгляд, а то непременно какую-то неловкость совершил бы. А так вроде бы все в порядке, действовал привычно, на автомате. Знающему человеку это говорит о многом: не из простых, держать себя с достоинством приучены сызмальства. Ну, начало, надо понимать, будет классическим – вопросы на тему: «кто ты, что ты и откуда».
– Из каких же ты Лисовинов будешь, боярич?
«Да, школа! С первого раза титулование запомнила и сразу же, первым же вопросом, пытается выяснить, велик ли род Лисовинов, много ли в нем ветвей».
– Из Погорынских, ваша светлость, земли нашего воеводства лежат промеж Горыни и Случи.
– А муромским Лисовинам вы кем приходитесь?
«Опаньки! А что, в Муроме тоже Лисовины есть? Нет, мать бы рассказала… Проверка! Блин, ну, началось путешествие по минному полю!»
– Не осведомлен, ваша светлость. Известная мне близкая родня у нас только в Турове, в Пинске и в Клецке. О муромских Лисовинах не слыхал.
– А я вот о клецких Лисовинах не слыхала, хотя всех там знаю.
«Ну, стерва, вот тебе еще один подзатыльник!»
– В Пинске и Клецке не Лисовины – Святополчичи.
Еще ТАМ, читая труды Гумилева, Михаил Ратников выстроил для себя (возможно, и неправильно) понимание того, почему столь трепетно относились аристократы, да и вообще дворяне, к своим родословным, почему своим происхождением гордились даже бастарды титулованных особ. Видимо, все началось еще в скотоводческих культурах, когда люди эмпирическим путем поняли законы наследственности. Знание это не потерялось с веками и в средневековье стало основой сословного обособления правящего класса и построения генеалогических древ.
Поначалу практика подтверждала правильность такого подхода: родоначальниками аристократических родов в подавляющем большинстве случаев становились пассионарии, а их потомки наследовали этот признак. Вот только не знали предки, что пассионарность из доминантного признака со временем может стать рецессивным; как говорится, «кровь разжижается». Да и условия жизни этому способствовали: когда обязанность скакать верхом в доспехе, размахивая чем-нибудь смертоубийственным, меняется на необходимость крутиться в придворных интригах, пассионарность становится не достоинством, а недостатком – хитрозадые «субы» и пассионарии низших уровней начинают выигрывать у принципиальных, а потому предсказуемых, пассионариев высших уровней.
Вот так и получилось, что во время Великой французской революции толпы аристократов вместо вооруженного сопротивления покорно шли на гильотину, а во время Гражданской войны в России во главе Белого движения не оказалось никого из великих князей или иных представителей самой высшей знати – либо эмигрировали, либо пошли под нож, как бараны. Да и вообще, вырождение европейских королевских и императорских фамилий стало «общим местом», не вызывающим сомнения.
Но ЗДЕСЬ, на Руси XII века, «качество крови» все еще имело важное, в некоторых случаях – решающее значение. Кровное родство с Рюриковичами могло запросто оказаться важнее, чем ум, энергичность или заслуги. Да, разумеется, свой статус требовалось подтвердить делом – XII век еще не то время, когда происхождение могло компенсировать слабость, как физическую, так и духовную; но и право на такое «подтверждение делом» человек получал прежде всего благодаря происхождению. Вот об этом-то своем праве и заявил Мишка всего одним словом: «Святополчичи».
В тот момент оно показалось ему необходимым, но оно же и стало тем спусковым механизмом, который запустил процесс, приведший к тому, что управлять событиями так, как он привык, Ратников уже не смог – оставалось только хоть как-то удерживаться в седле.
Удар попал в цель! Мишка понял это, когда заметил, как Агафья дрогнула лицом; разговор мгновенно вышел на совершенно иной уровень: с ней разговаривал не просто отмороженный подросток, а родич единственной, кроме Мономашичей, княжеской ветви, сохранившей формальное право на великокняжеский престол. Она – женщина из соперничающей династии – была у него в руках, а он, нисколько не смущаясь, уведомил ее, что запросто может вырезать всех пленников! Разумеется, шансов у Святополчичей не было, и убийство Мономаховны тут не помогло бы, а скорей повредило, но мало ли, что придет в голову подростку, вдруг да решит, что таким образом своей родне поможет?
«Огребла, княжья морда? Что у нас следующим пунктом последует? К гадалке не ходи – умасливание и улещивание. Баба, она и в Африке баба, хотя бы и княжьих кровей».
Мишка оказался прав: в ситуации, когда любой мужчина ответил бы на вызов, княгиня Агафья расплылась в сладчайшей улыбке и, словно не придав значения его словам, просто сменила тему.
– Да, вижу, боярич, что кровей ты добрых! Это ж надо, с мальчишками пойти против матерых татей и победить! Как решился-то?
– Отроки у меня не простые, ваша светлость! – Мишка старательно изобразил, что польщен комплиментом, только вот зарумяниться не получилось. – В воинской школе выучены и в боях уже побывали, да не по одному разу.
– В воинской школе? – кажется, Агафью неподдельно заинтересовало необычное название, или все же притворялась? – Это что ж за диво такое?
– Около века назад, ваша светлость, великий князь Ярослав Владимирович отправил в Погорынье сотню ратников. С тех пор так там и живем: язычников в трепете держим, волынский рубеж стережем да по княжьему слову в походы ходим. Вот уже шестое колено воинов сами воспитываем и обучаем.
На несколько секунд улыбка Агафьи стала словно приклеенной.
«Эге, сэр, похоже, ваши догадки о том, что Ярослав Мудрый братиков почикал, таки имеют под собой основание, вон как княгиню-то упоминание о нем зацепило. Тема-то «в елку» – Ярослав тогда соперников прибрал, а сейчас, наоборот, Мономаховна в руках у родича Святополчичей оказалась. Что-то неказисто у вас, сэр, получается… сами же решили – никаких запугиваний».
Агафья быстро овладела собой и снова «надела» на лицо выражение «ну, прямо мать родная».
– И тем не менее… Благодарствую за выручку и покарание татей, боярич. Храбрость и разумность твою вижу и ценю – не всякий, ой, далеко не всякий отрок на такое способен! Я добро помнить умею и отплачу за него сторицей… и опричь выкупа!
Мишка ответил на этот заход изображением оскорбленной невинности заодно с аристократической гордостью:
– О каком выкупе речь, ваша светлость?! Защита беспомощных и наказание злодеев – святая обязанность православного воина! Требовать за нее награду невместно!
– Но и мне-то неблагодарной оставаться тоже невместно! Воздаяние за доброе дело – такой же христианский долг, как и обязанности православного воина! Неужто у тебя, боярич, никакого желания нет, кое я исполнить бы могла?
Княгиня так повела глазами, что у Мишки сами собой подобрались пальцы на ногах.
«Сэр, это просто на грани открытого предложения секса! Вы прямо-таки обязаны смутиться и покраснеть! Хотя… это вы, пожалуй, со своим цинизмом загнули слегка… Какой секс? Дамочка-то наверняка и помыслить не может, что изъявление ее милости кто-то ТАК посмеет расценить. Она-то песика дворового по голове потрепала, не более. Так что живо виляйте хвостом изо всех своих щенячьих сил – сделайте тетеньке приятное».
– Высшая награда для меня – благоволение вашей светлости!
«Тьфу! Самому противно!»
– И только-то? Да ты скромник, боярич!
– Ну, еще… – Мишка изобразил колебания и яростную внутреннюю борьбу. – Еще добрые слова вашей светлости обо мне перед вашими братьями: его высочеством Вячеславом Владимировичем и его величеством Мстиславом Владимировичем.
«А не перегибаете палку, сэр? Высочество, Величество… как бы у бабоньки ум за разум не зашел. Впрочем, новые красивые титулы для нее, что новое украшение, а для женщины это одно сплошное удовольствие. Решила же она вашим тараканам в голове подыгрывать, а тут даже и напрягаться не надо».
– М? – Мишке, кажется, удалось удивить Агафью. – Ты столь предан Мономашичам?
– Да, ваша светлость! Прошедшей зимой я так князю Вячеславу Владимировичу и сказал: «Волкодав из чужих рук пищу не берет!»
– Ты разговаривал с Вячеславом? Как это ты сподобился?
– Имел честь, ваша светлость! На празднике проводов зимы я с отроками показывал в Турове воинское учение… ну, чему у нас в Погорынье воины молодежь обучают. Его Высочеству Вячеславу Владимировичу понравилось, и он меня златым перстнем одарил!
Агафья скользнула взглядом по Мишкиным пальцам.
– А что ж подарок-то княжий не носишь?
– Я за него холопа выкупил и, окрестив, по завету Господа нашего Иисуса Христа, даровал ему волю.
– Гм… Похвально, боярич, похвально.
«Все, сэр! Можете гордиться – вы в ее глазах полный идиот. Даже неудобно как-то… Вы-то ее игру насквозь видите, а она ваши выкрутасы за чистую монету принимает. Восторженный пацан, воображающий себя рыцарем, прямо как на картинке! Пожалуй, мадам уже дозрела до убеждения, что может вами крутить, как захочет. Ох и облом ей корячится… мама не горюй!»
– Ну что ж, – продолжила княгиня тоном, от которого «поплыл бы» любой подросток, – вижу, что мы теперь под защитой, хоть и молодого, но достойного воина… и истинного боярина!
Мишка потупился и свел раздвинутые до того колени, только что пол носком сапога ковырять не принялся.
– Могу теперь ни за себя, ни за детей не опасаться.
Мишка гулко сглотнул и шумно втянул носом воздух.
– И братьям о твоей доблести и разумности расскажу, – медоточивость голоса Агафьи превысила все мыслимые границы, – и воеводу Погорынского извещу о благодарности за прекрасное воспитание сына…
– В-внука… Ваша светлость… – в последний момент удалось удержаться от соблазна подпустить слезу в голос, но кто-то из близнецов-«пажей» растроганно шмыгнул носом и негромко звякнул кольцами доспеха.
– Внука? А батюшка твой?
– Десятник старшей дружины Погорынского войска Фрол Лисовин пал в сече на Палицком поле… – к концу фразы Мишка понизил голос почти до шепота.
– Так ты сирота… – княгиня подалась вперед и подняла ладонь, как бы собираясь погладить Мишку по голове, но сдержалась.
«Разрыдаться, что ли? На грудь ей… или лучше к коленям припасть? Нет, перебор, пожалуй, получится…»
– И ты преодолел все испытания, тебе ниспосланные, сотником стал…
Княгиня разливалась соловьем, Мишка делал вид, что не знает, куда деваться от столь ласкового обращения, а «пажи» – Елизар с Елисеем – громко сопели дуэтом и, казалось, вот-вот начнут растекаться, как масло на солнышке.
«Ну, сэр Майкл, ради такого стоило провалиться на девятьсот лет в прошлое! Когда это вы столько комплиментов из женских уст получали? Были бы они еще искренними, а то ведь театр сплошной… Но исполнение, позвольте вам заметить, отменное – в каждой бабе актриса сидит! Интересно, когда она решит, что клиент доведен до нужной кондиции, и можно начать приказывать восторженному мальчишке, который готов положить за нее и свою голову, и головы своих ребят? Ага! Вот, кажется, началось… издалека заходит мадам, осторожная дамочка. Впрочем, ничего удивительного – опыт совместного правления с мужем сказывается».
– А скажи-ка, боярин Михаил Фролыч…
«Быстро вскинуть восторженно-изумленные глаза!»
– …А не приходила ли тебе мысль на княжью службу поступить?
– Служить вам, ваша светлость, честь для меня великая и радость душевная!
– Хорошо сказал! Да и мне, ежели начистоту, такого боярина иметь тоже в радость.
– Приказывайте, ваша светлость!
– Вы ведь мою ладью у татей отбили?
– Так, ваша светлость, только проверить надо: в исправности ли она, не попортили ли ее тати.
– Ну, так вот: проверяй ладью, гони сюда и проводишь меня с детьми до Городно. А уж там и награда для тебя будет, боярин.
– Немедля все исполню, ваша светлость! – Мишка, демонстрируя готовность, вскочил со скамьи. – И как только укажет его светлость князь Всеволод Давыдович, доставлю вас в град!
– Это что же? – Агафья грозно сдвинула брови. – Тебе моего повеленья недостаточно?
«Внимание! Прокол или преднамеренность? Не отреагировать на имя мужа, не заинтересоваться, откуда он тут взялся… Пожалуй, намеренно – по идее, вы, сэр, должны на уши встать, чтобы опять ласковую улыбку на ее лицо вернуть. Какие уж тут пререкания. А вот фигушки! Но не форсировать – аккуратненько прикидываемся шлангом».
– Так ведь как же… – Мишка изобразил растерянность. – Без княжьего слова?
– Мое слово здесь – княжье! – надавила голосом Агафья.
– Но, ваша…
– Никаких но! – княгиня рявкнула не жиже матерого фельдфебеля на строевых занятиях. – Исполнять!
– Поперек князя?
– Ты только что МНЕ служить напрашивался!
– Но… – Мишка сделал паузу, словно подыскивал нужные слова, а потом процитировал: – «Муж любит жену, жена да убоится мужа своего».
Агафья открыла рот и… смолчала.
«Вот так! И никакие мы не мужские шовинисты, а просто христианское благочестие блюдем. Типа: баба, знай свое место, как от Бога указано. Ну-с, ваш антитезис, уважаемый оппонент?»
Чего стоило Агафье сдержаться, знала только она; впрочем, и Мишка тоже догадывался. Опыт соправительницы сделал свое дело: Агафья, скорее всего, не поняла, а каким-то «верхним чутьем» уловила – стоящий перед ней мальчишка знает что-то такое, что неизвестно ей, а какие ошибки может сотворить неинформированный (или недостаточно информированный) управленец, она прекрасно знала – наверняка немало шишек понабивала в первые месяцы или даже годы княжения в Городно.
– Ну-ка, сядь! – княгиня так лязгнула голосом, что «пажи» дружно вздрогнули. – Почему от князя слова ждешь? Ты с ним виделся? Он где-то рядом? Почему с тобой не приехал?
– Не гневайтесь, ваша светлость!..
«Больше раскаяния в голосе, сэр, жалобнее!»
– Моя вина! Сразу надо было все обсказать…
– Не тяни! Рассказывай!
«Э-э, далеко вам, мадам, до Нинеиного «рассказывай», ну, да ничего, тут и врать-то фактически не придется…»
– После похищения вашей светлости с детьми, тати потребовали от его светлости князя Все…
– Говори проще! Князь и все!
– Как будет угодно вашей…
– Ну!!!
– Тати потребовали от князя пропустить ляхов через городненские земли в туровские владения. И не просто пропустить, а сопроводить и помочь. Ему пришлось согласиться, чтобы…
– Понятно! – прервала Мишку Агафья и задумалась.
Подумать было о чем: ее муж пошел против родича и сюзерена. Вынужденно, но пошел. Без последствий такое не остается.
– Дальше!
– Мы ляхов в туровских землях встретили. Частью перебили, частью обратили в бегство. На северном берегу Припяти нагнали и могли изничтожить совсем, но вмешался князь Всеволод. Ляхи сумели уйти, но князя ранили стрелой в плечо.
– Не твои ли щенки постарались?
Какая, к черту, ласковость? Тон Агафьи был: «могла б – убила бы».
– Мы из самострелов болтами стреляем, а не стрелами…
«Оправдываетесь, сэр, из образа выходите. Породистый щенок должен не только хвостом вилять, но и зубы показывать. Хвостиком вы перед ней виляли, надо полагать, убедительно, зубы не только показали, но и закусали, кого требовалось, причем насмерть, а теперь еще и порыкиваете. Ну, точно щенок – хороших кровей, но по возрасту еще дурной. Княгиня не истеричная дура, должна сообразить, что при ПРАВИЛЬНОЙ дрессировке из такого настоящий защитник получится».
– …Но все равно, – Мишка добавил металла в голос и в упор уставился на Агафью, – стрела была погорынской! А был бы болт самострельный, так и в том греха не вижу!
Подействовало – княгиня вспомнила, что находится в руках мальчишек-«отморозков», и изобразила жестом: «не обращай внимания – нервы». Мишка кивнул, мол, понимаю, и продолжил рассказ, тщательно избегая любых отклонений от избранного им образа. Мальчишка, воображающий себя рыцарем и грозным воеводой, которому несказанно повезло уже и тем, что он просто выжил, а тут еще и князя пленил, и заложников освободил! Везунчик, но сам этого не понимает, как не понимает и того, что вместе с пленением князя и освобождением его семьи приобрел не столько честь и славу, сколько множество проблем на свою тощую задницу. Ждет, несомненно, почестей и наград, уже заранее чуть не лопается от гордости, но… вот тут для Агафьи должна была возникнуть непонятка: родней приходится Святополчичам, а преданность демонстрирует Мономашичам, вернее, одному из Мономашичей – Вячеславу Туровскому.
Княгиня слушала внимательно, время от времени стимулируя рассказчика то кивком, то ободряющим междометием. За мужа, кажется, переживала искренне – ну и что, что особо страстной любви между ними не случилось (брак-то династический), все равно вдовья доля не подарок и на городненском княжении ее никто в случае смерти Всеволода не оставил бы.
Было, однако, в ее реакции и такое, что Мишке весьма не понравилось. Когда рассказ дошел до того, как Всеволод всего с двумя десятками дружинников бросился на выручку семье, по лицу княгини скользнуло что-то вроде презрительной усмешки. Мишка догадался, что в иных обстоятельствах подобные действия князя были бы прокомментированы Агафьей всего одним словом: «Дурак».
Мишка и сам не считал поведение Всеволода образцом мудрости, но взыграла мужская солидарность: «Он все бросил, раненый очертя голову скакал ей на выручку, чуть не умер, а она… Вот она – баба во власти: все чувства задавлены, компьютер в юбке, ничего женского не осталось».
Известие об агрессии Полоцка Агафья восприняла спокойно, и Мишка решил, что если она о планах соседей и не знала точно, то вполне могла догадываться, а еще могла надеяться при удачном стечении обстоятельств оттягать под шумок у Пинска землицу, прилегающую к Городно. Кусок, что ни говори, жирный – «Черная Русь» с плодородными и хорошо заселенными землями, не то что полесские болота.
К намерению Мишки явить плененного Всеволода в Турове пред очи Вячеслава Владимировича Агафья, похоже, отнеслась с пониманием – мальчишка-сотник ради такого звездного часа наизнанку вывернется, а вот то, что ее судьбу будет решать Всеволод, а не этот сопляк, которым, как поначалу показалось, она смогла бы вертеть, как заблагорассудится, княгине не понравилось. Необходимость визита в Туров и в Киев для спасения вляпавшегося в серьезные неприятности муженька она прекрасно понимала, но одно дело, когда она сама приедет (подготовившись и посоветовавшись), и совсем другое, если ее привезут – пусть не пленницей, а спасенной, но все равно привезут. Выглядеть добычей какого-то сопляка из погорынского захолустья ей очень и очень не хотелось. Западло, так сказать, княгине, но никуда не денешься – если муж так решит, мальчишка поддержит его, а не ее.
– Ну, что ж… – задумчиво произнесла Агафья по окончании Мишкиного повествования, – благодарствую, боярич, много ты мне нового и неожиданного поведал.
«Ну, вот! А где боярин Михаил Фролыч? O quam cito transit gloria mundi. Проще говоря: «Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал». О женщины, женщины… обольстить не удалось, вертеть не получится, значит, и доброго слова не дождешься. Да и цена тем добрым словам…»
– Обдумать мне все это надо, – продолжила Агафья после паузы. – А ты ступай пока… Ступай.
Мишка молча поднялся со скамьи, отвесил поклон, четко, как на строевых занятиях, развернулся и пошагал к выходу в сопровождении «пажей».