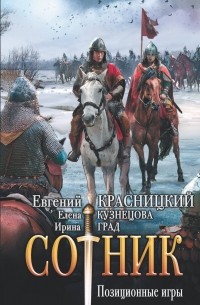Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Часть первая
Глава 1
Ноябрь 1125 года
Дорога между Туровом и Михайловской крепостью
Как Илья исхитрился, непонятно, но обещание свое исполнил; со стороны глядя, умысел и не заподозришь. Произошло все само собой: телеги, сцепившиеся на самом въезде, пробкой закупорили ворота в Ратное, создавая затор, усугубленный скандалом, немедленно поднятым возчиками. Похоже, с мордобитием. А тут ещё небольшое стадо коров, свиней и прочих баранов, закупленное для семей артельщиков, почуяло близкое жилье, совершенно вышло из берегов и внесло свою лепту в происходящее. И уже не разобрать, по собственной ли инициативе взбесилась скотина или благодаря ловкости обозного старшины, но Илья озабоченно хлопотал в самом эпицентре этого безобразия и старательно имитировал бурную деятельность по наведению порядка в подведомственном ему хозяйстве.
Далее, в полном соответствии с теорией управляемого хаоса, все понеслось само собой по нарастающей под аккомпанемент криков, бабьего визга, ругани, мычания, блеяния и хрюканья. Мишка не на шутку обеспокоился, выдержит ли многострадальный ратнинский тын ещё и этот штурм, вдобавок к тем двум, что выпали на его долю за последние месяцы.
Впрочем, на этот раз селу ничего не угрожало: ну, может, чего там потопчут-поломают, но, надо надеяться, дед порядок быстро наведет, разве что по шее кому-нибудь перепадет сгоряча. Главное, чтобы Корней, когда поймет, что происходит и как его развел любимый внучек со товарищи, не плюнул на все и не рванул верхом через село к другим воротам, которые на мост выходят. Вот тогда уже беды не миновать – публичного неподчинения своему приказу воевода не спустит. А подчиниться этому приказу сотник Младшей стражи никак не сможет. Вот тогда – все. Открытый бунт. Такое только кровью потом смывать.
«Ну, сэр, теперь все исключительно от лорда Корнея зависит. Сможет и, главное, захочет он свой гонор унять или все-таки танком попрет? Одна надежда на Егора. Он, конечно, сотнику не указ, и если тому вожжа под хвост залетит, удержать его не сможет, но десятник не хуже вас понимает, чем оно обернется, так что слова, надеюсь, найдет… Даже если сразу выложит деду главное про все наши дела грешные, уже хорошо. Лорд Корней, конечно, у нас жесткий приверженец авторитарного стиля управления, то есть самодур на всю голову, но все-таки ключевое слово тут – управленец. Должен просчитывать последствия…
Должен-то должен, но пожелает ли?… Ладно, чего гадать, все сейчас и определится… Блин, что ж так медленно-то!! На тот берег перейдём, воевода следом не погонится, а так, как он задумал, уже не выйдет. Придется или разоружать нас, или воевать. Сотню поднимет? Нет, не рискнет…
Ну же! Чуть-чуть осталось… Черт побери твою в бога душу мать, давай же! Пронеси, Господи…»
Мишка с облегчением увидел, что на мост вступили последние двое отроков, и, мысленно перекрестившись, направил своего коня следом за ними. Только на въезде в лес ещё раз обернулся и перевел дух: свалка возле Ратного отсюда почти не просматривалась, да и успокаиваться там стали; деда или, не дай бог, вооруженных воинов тоже не наблюдалось, речные ворота стояли запертые. Ну, значит, пронесло. Пока пронесло, а там разберемся…
– Илья совсем, что ли, сдурел? – подъехавший к брату Дёмка недовольно поморщился. – Представляю, что дядька Никифор деду выскажет… Всю дорогу ведь присматривался, как с обозом управляемся, а тут… А ты что, сам воеводе и не доложишь?
– Потом все, – мотнул головой Мишка. – Егор доложит. Сейчас нам в крепость надо спешить.
– Опять там нападения ждут? – Дёмка хмуро кивнул. – Ясно…
Мишка не стал разубеждать брата, но и не подтвердил его догадку кивком, оставляя себе хоть какую-то иллюзию, что не соврал – просто всей правды не сказал.
«А сказать придется, если только дед не одумается и не предпочтет сделать вид, что ничего не было. Хотя, сэр, вы на такой подарок судьбы никак рассчитывать не можете – не с вашим счастьем, как говорится. Да и не в самом Корнее дело: он уже так просто от своего слова отступить не сможет, даже если захочет. Алексей и его орлы знают – или их мочить теперь, или на своем настаивать. Но про это не сейчас, дома и в соответствии с ситуацией – после того, как станет ясно, что происходит, и на каком мы свете…»
И так пришлось Егора посвящать. Мишка, конечно, всего и ему не сказал, и сам десятник лишних вопросов не задавал, но что тот все понял, сомневаться не стоило, а вот ближникам придется объяснять подробно. Что именно – дома решит. Он и сам пока знал только то, что Сенька, поджидавший Младшую стражу на Княжьем Погосте, передал ему на словах от матери.
«А ведь леди Анна про Алексея все понимает… Не может не понимать. Стало быть, она от своей последней и главной в жизни любви отказалась? Пожертвовала своим бабьим счастьем ради сына. Об этом Мишка Лисовин не задумался бы даже, а вы не можете не понимать и не оценить. Мать – она и тут мать. Или уже боярыня ради рода решала? Не важно – важно, что она свой выбор сделала…»
Налегке, без обоза, те десять верст, что оставались до крепости, миновали быстро. Погони не было, однако и испытывать судьбу Мишка не хотел, так что шли на рысях, сам он так и держался сзади, а потому выехал к переправе последний и…
Ратников не сразу понял, что происходит: отроки, хоть и продолжали держать строй и соблюдать привычный порядок, тем не менее сейчас производили впечатление не воинского подразделения на марше, а ошалевшей толпы. Мальчишки замерли в седлах, все как один уставившись куда-то в небо над крепостью. Роська, стянув шлем с головы, истово крестился с просветлевшим лицом святого мученика, внезапно узревшего знамение, и беззвучно шевелил губами, вероятно произнося соответствующую случаю молитву. Прежде чем недоумевающий боярич успел развеять этот морок привычной командой, к нему подлетел обалдевший не менее всех остальных, но несмотря на это не забывший про командира и свои обязанности Дмитрий:
– Минь, видишь?! Вон…
Все ещё ничего не понимающий Мишка проследил за рукой старшины Младшей стражи и сам едва не упал с седла. Правда, его обалдение оказалось немного другого рода, чем у всех остальных отроков, но легче от этого не стало: над крепостью в восходящих потоках воздуха парил самый настоящий воздушный змей! Тот самый, каких Ратников в детстве и сам немеряно запускал, ловя ветер. Ничего особенного в его конструкции не было: ромбовидный, с положенным хвостом из мочала и разноцветных тряпочек. Только что раскрашенный не драконами или самолетами, а с нарисованным на полотнище ликом Иисуса Христа, достаточно примитивным по исполнению, но хорошо различимым на солнце, несмотря на расстояние…
«Об-балдеть – не встать! Явление Христа народу, блин! Это кто ж у нас в Александры Ивановы записался?»
Мишка поймал себя на желании хорошенько треснуться обо что-нибудь головой, чтобы привести разбегающиеся мысли в порядок. Он, конечно, в отличие от отроков, принявших этот взвившийся в небо лик то ли за божье чудо, то ли за какую чертовщину, в земном и вполне рукотворном происхождении данного явления не усомнился, но дела это не меняло. Кто здесь и сейчас мог запустить в небо змея, кроме его современника? Случайно забредший на огонек китаец?
«М-да, сэр, каждый уважающий себя попаданец должен изобрести самогонный аппарат, построить доменную печь и встретить китайца для обучения тонкому искусству дзюдо, дзю-после, познания дао любви, ну, и секрета изготовления фарфора до кучи. Штоб было.… Как там в анекдоте?.. Уже пятый монах Шаолиня, попадавшийся на пути, к сожалению, ничего не знал ни о кун-фу, ни о производстве фарфора, зато пытался впарить герою партию контрафактных мечей-кладенцов. Оптом со склада производителя…
Но даже если предположить, что этого китайца с какого-то бодуна сюда занесло, пока вы воевали, то лик Иисуса Христа – явно не шаолиньских ручек дело. И позвольте напомнить вам, сэр, что Китай далеко, а вот ваш, так сказать, коллега по цеху, рядом. Месье Журавль проспался, проникся и политического убежища попросил?
Тьфу, опять какая-то хрень в голову лезет! Отроки сейчас в религиозный экстаз массово впадут, а тут дурью маешься! Вон, Роська уже с седла сползти пытается – не иначе, на колени грохнуться норовит, да и остальных клинит. Получите какую-нибудь секту Свидетелей Второго Вознесения на свою голову – будет вам тогда камасутра… И с вечера тоже».
– Отставить! Себя в порядок привести – рассупонились, как девки на сеновале! Поручик Василий! Приказа спешиться не было! Митька! Куда смотришь?! Я за тебя командовать буду? Видите, как нас встречают? – Мишка кивнул на парящий в небе стяг. – Сие чудо не просто так, оно нарочно для нас сделано. Молодцы! Кто-то рукодельный в крепости постарался, сообразил, как все устроить да запустить! Это полотнище, на тонких рейках натянутое и ветром подхваченное, называется змей воздушный. Во-он бечевка, которой им управляют с земли, видна… – он обвел взглядом отроков, оживающих после его слов. – Господь наш велик и всемогущ, и фокусы дешевые, как скоморох на торжище, не показывает, а потому запомните: считать все непонятное истинным – вот залог подлинной веры. И в чудесах она не нуждается. Лучшее чудо то, что мы сами создаем. Вот в ЭТОМ воля Господа и чудо Его!
Последнее Мишка сказал специально для Роськи, уж больно расстроенная у того была физиономия. А для закрепления урока рявкнул:
– Смирррна! Старшина Младшей стражи, командуй!
«М-да, сэр, не романтик вы, ну вот не романтик, и все тут. Обломали весь кайф поручику. Впрочем, хорошо, что сейчас так вышло, а то уж больно легко оказалось развести его на чудо. Нет, он и впрямь только после вашего пояснения увидел и бечевку, и то, что образ рукотворный, на холсте намалеван, а ведь если бы так и осталось загадкой, потом бы искренне и с жаром всем доказывал, что в небе лик светился на облаке или что там ему почудилось-то? ПОВЕРИЛ. Потому что верит искренне и очень хочется ему чуда…»
Ратников ещё по прежней жизни не раз был свидетелем того, как искренняя жажда чуда напрочь лишала далеко не глупых людей способности здраво оценивать происходящее, словно искажала реальность в угоду их страстному желанию и вере, вписывая вещи обыденные и понятные в прокрустово ложе «чудесного». Так всяческие, не в меру расплодившиеся после перестройки, охотники за НЛО и барабашками «видели» их и даже общались с представителями внеземных цивилизаций и потустороннего мира. Страна массово «исцелялась» и «заряжала» воду перед экранами телевизоров, с которых таращились на них с умным видом целители всех мастей, люди за сумасшедшие деньги покупали всевозможные БАДы, иногда откровенно сомнительного качества – хорошо, если безвредные – и исцелялись! Верили, потому как хотели поверить.
Вот и политикам верили точно так же. И что рынок вдруг придет и всех спасет, и что если остановить заводы и разоружить армию, а в правительство посадить представителей чужого, откровенно враждебного государства и следовать их советам, страна с чего-то вдруг станет богатой, а все сразу счастливыми… А потом, когда вдруг выяснилось, что не станет, что иностранные специалисты заботятся прежде всего о благе собственного государства (а с какого бодуна им заботится о чужом, спрашивается?), что любое экономическое чудо есть всегда результат долгой напряженной работы и экономии на всем, так многие от морока очнулись и сами потом только что головой о стенку не колотились с досады – да как же нас так развели-то?
«Ведь вот оно все, невооруженным глазом различимо – и холст, и реечки, и бечевка, которой этим «чудом» воздушным управляют, только включай критическое мышление и здравый смысл хотя бы на малые обороты! Пусть даже на долю секунды, а дальше оно, это мышление, своего не упустит. Так что хороший урок ребятам получился. Пусть привыкают при виде любого непонятного прежде всего задействовать исследовательскую реакцию, а уже потом «Аллилуйя!» кричать. А лучше и вовсе промолчать…»
Впрочем, курс молодого бойца по «ловле птицы обломинго» для ближников Ратникову пришлось провести ещё в дороге. И тоже благодаря Роське…
– Минь, ты не сердись только… – в участливом взгляде, казалось, отразилось все христианское смирение и сострадание к ближнему, кои он только мог изобразить. – Я спросить хочу…
– Ты чего, Рось? – Мишка воззрился на своего крестника, озадаченный, чем вызваны эти гримасы, тем паче что поручик Василий уже давно поглядывал на него с задумчивой тревогой, ерзал и момент для своего вопроса выбрал такой, когда рядом никого не оказалось. И подозрительно мялся, выказывая при этом ранее несвойственное ему смущение.
– Все же хорошо получилось. Ты теперь княжий сотник и вообще… А ты словно и не рад вовсе…
Роська набрал воздуха, словно перед прыжком и выпалил:
– Из-за Юльки, да? Думаешь, не простит? Ну ведь тебе на ней все равно никак жениться нельзя! Может, это Знамение? Раз сам князь тебе жену нашел. Она тоже поймет, что тут у тебя и выбора не было, раз Бог форсмажор посылает…
– Че-го?!
Мишка едва не поперхнулся от такого пассажа, мучительно вспоминая, когда это его угораздило так непредусмотрительно просветить падкого на филологические новинки крестника в столь специфической терминологии, как юридическое понятие «форс-мажор», и каким таким кандибобером оно у того трансформировалось в Волю Божью.
– Ну, ты ж сам говорил, что бывают такие …э-э… объективные обстоятельства непреодолимой силы, которые не зависят от нашей воли и из-за которых невозможно исполнять договорные обязательства. А это освобождает тех, кто заключил договор, от ответственности… – торопливо объяснил Роська, по-своему расценивший изумление своего сотника. – То есть Знамение Божье, что ж ещё? Чтобы соблазна не было. Просто тогда тебе и сомневаться не надо, и перед Иулией вины твоей нет. Всевышний лучше нас разумеет, что нам всем во благо… – крестник вздохнул и сник. – Ну ты же сам говорил, что долг превыше всего почитать надобно… Вот я…
– Напомнить мне решил, что ли?
«Ну вот, сэр, первый пошел… В соответствии со сложившимся за последнее время стереотипом вам следует изобразить гнев и двинуть наглеца в ухо. Но лень – за день так намотался… И выбрал же поручик время! Хотя сами, сэр Майкл, виноваты – так до сих пор толком и не поговорили с ближниками.
Ясное дело: все отроки аж светятся, дай им волю – устроили бы чествования своего сотника и пир закатили. Ну да, как же – сам князь обласкал и возвысил. И не только вас – всю сотню в вашем лице признал не сопляками, кои у взрослых на подхвате, а воями… Вашу сотничью гривну они и своей наградой считают – и совершенно заслуженно, разумеется, считают. И Евдокию, кстати, тоже. Вот только не знают, что к ней в нагрузку прилагается, а вам пока что даже ближникам недосуг объяснить, да и двумя словами тут не отделаешься…»
До отъезда у него так и не нашлось времени собрать совет. И до пира княжьего казалось, что дел уже столько, что до нужника некогда добежать, а после него ещё навалилось. И сборы в дорогу, и необходимость срочно разобраться с пожалованным имением, и хоть как-то его застолбить. Место оказалось далековато от окольного города – все удобные близлежащие давно заняты посадом и огородами, – зато вполне подходило как раз своей обособленностью и выходом к реке, где можно собственную пристань соорудить. Конечно, стройку перед отъездом затевать смысла не имело, а дядюшка клятвенно обещал, что его люди обо всем, как о своем, позаботятся, про лес, надобный для работ, сговорятся, чтоб как раз за зиму привезли, закупят все иное потребное. Но хозяйский пригляд все равно требовался.
Кроме того, пришлось решать, что делать с подаренной князем ладьей: по воде она до Ратного уже не успеет дойти, не на санях же везти. Ее тоже пока что оставили в Турове, под присмотром Никифора, но перед этим сняли из оснастки все, что можно было. Дядюшке, а тем более Ходоку, Мишка таких подарков делать не собирался.
Да ещё выяснилось, что и без того немаленький обоз, который собрал в дорогу Никифор, увеличится чуть ли не втрое за счет семей строительной артели. Причем семьи эти состояли из баб с детьми и стариков со старухами – все мужи в артели. Даже отроки, чуть вошедшие в возраст, постигали науку с отцами в подмастерьях. Так что за мужей управлялись мальцы чуть старше десяти лет. Пришлось Никифору своих возниц выделять им в помощь.
И купец Григорий – дядька спасенных весной сестер одного из купеческих отроков – с собой аж двое саней чем-то нагрузил. Но это понятно: купцы для своих сыновей гостинцы с ним передали. Да и ехал Григорий не один – с женой теткой Анфисой и родичем. На купчиху Мишка особого внимания пока не обращал – баба и баба, ничем особо к себе внимания не привлекала, но вот родич этот не то чтобы не понравился, но вызвал чувство, схожее с тем, которое испытываешь при внезапной встрече с сильным и опасным зверем в лесу. Вроде как и нападать ни он, ни ты не собираетесь, проще разойтись и друг другу не мешать, но опасность, исходящую от него, всем нутром чувствуешь.
Впрочем, дядька Путята держался в сторонке, не лез никуда, не выспрашивал, не выглядывал и вообще, как сказал Григорий, давно бы уже из Турова по своим делам уехал, да вот детей погибшего побратима за своих родных почитает, потому и не мог не повидаться с ними перед отъездом. Вроде бы по-людски, все понятно, но каждый раз, проезжая мимо него, Мишка чувствовал, как у него на загривке разве что шерсть не топорщилась. И Егоровы бойцы так же реагировали, он специально наблюдал.
Впрочем, гораздо сильнее, чем этот самый Путята, и Мишку, и десяток Егора сейчас занимал отец Меркурий – новый священник, который тоже ехал с обозом. Ибо этот поп, от которого за версту разило не столько благолепием и монастырским смирением, сколько походными кострами и казармой, вызывал у них чувства не менее сильные. И озабоченность уже вполне определенную. Путята-то, кем бы он там ни был, судя по всему, на их пути встретился случайно. И хотя упускать его из внимания не стоило, но скорее на всякий случай – авось и он когда для чего сгодится: задерживаться в крепости и вообще в Турове он как будто не собирался, а вот с отцом Меркурием дело теперь предстоит иметь постоянно. А тут уж к Нинее не ходи – этот кадр далеко не тишайший отец Михаил, который особо лезть в дела сотни воздерживался, да и в крепости не часто появлялся.
Все это и много чего ещё требовалось обдумать и оценить. Особенно на фоне того, как основательно вляпалась Младшая стража и ее сотник, а вместе с ними и вся ратнинская сотня в процесс международных отношений, которые, если верить тому, что Мишка помнил из истории, вот-вот войдут в очередной переходный период, связанный с формированием нового мироустройства. Этот процесс, как ему и до́лжно, будет сопровождаться цепочкой интенсивных региональных конфликтов и усилением конкуренции во всех сферах. А пресловутый инцидент на порогах, вероятно, есть первая ласточка грядущего передела геополитического пространства.
«Вот именно, сэр! Сами нечаянно вляпались в Большую Игру и сотню за собой потянули, так оцените для начала своё место в ней – весьма скромное, если не сказать больше, и свою линию – насколько она может соответствовать интересам вашим, а не чужого дяди.
…Создаёшь свою команду под решение всех этих тактических и стратегических задач, а сам так занят, так занят, что даже поговорить с пацанами некогда? Так с чего Роське в ухо дать вдруг захотелось?
Вам же нужны не исполнители нерассуждающие, а соратники, из которых вы собираетесь готовить управленцев высшего звена. Вот и извольте учить, потому как последствия феерического представления с князьями, пирами и сватовством к «принцессе» Дуньке им предстоит разгребать вместе с вами, сэр Майкл. Даже пешке интересно, в какое пекло ее сунут, а вам просто пешки не нужны.
А то, что Роська вот так сунулся… Ну так и хорошо, что спрашивает – хуже, если спрашивать перестанут».
– Ну и правильно, что напомнил, – усмехнулся Мишка, заметив растерянную мордаху крестника, уже, похоже, готового дать задний ход. – А вот про форсмажор ты неверно понял. Или я не так объяснил. Форсмажор – это не Воля Божия и не Знамение, а как раз то, что наступает, если этим знамением пренебречь. А потому допустить этого нам никак нельзя… Короче, на ближайшей стоянке собирай наших.
– Совет? – деловито поинтересовался Роська. – Тогда скажу Дмитрию, чтоб передовой разъезд заранее позаботился о кон-фи-де… денце… динци… – поручик было попытался выговорить трудное слово по слогам, сбился под насмешливым Мишкиным взглядом и со вздохом поправился: – Ну, чтоб не мешал никто в общем… Илью Фомича тоже звать?
– Не надо его дергать лишний раз, – покачал головой сотник. – И так у обозного старшины дел не разгрести, а мы с вами просто поговорим. Давно пора.
Лошадь – не человек, ей отдыхать надо. Когда-то, ещё в той жизни, Михаил Ратников, впервые услышав эту фразу, принял ее за шутку. И зря, между прочим. Самая что ни на есть истинная правда оказалась. Нельзя лошадей гонять без отдыха – падут. Так что хочешь не хочешь, а приходится останавливаться, кормить-поить, давать передых. Потому гужевым транспортом, как ни спеши, а все равно не сильно быстрее, чем пешком, получится, особенно если скотину с собой гнать. Спасибо, снег лег ко времени и сразу мороз встал: санный путь – это все-таки не по грязи тащиться. Но все равно, глядя на то, какую жижу из мочи и навоза оставляют за собой путники, Мишка в очередной раз задумался о правдивости исторических свидетельств о тысячах татаро-монгольских орд, передвигающихся конно по замерзшим рекам. Даже одному человеку просто пописать на снежок – ямка в сугробе до грунта, а что остаётся после табуна лошадей, Мишка сейчас наблюдал собственными глазами.
Впрочем, хрен их знает, может, как-то и шли… Слава богу, ему повторять их подвиг пока что нужды не предвиделось – своего хватало. Во всяком случае, идти по реке ни у кого и мысли не возникло – лед ненадежен.
Зато нападения татей не опасались – это же надо совсем на голову дурными быть, чтобы дергаться на такую ораву, да ещё при сопровождении оружных. Ну, и мерами безопасности не пренебрегали и от обозных требовали соблюдения общей дисциплины. Не обошлось, разумеется, без незаметных посторонним трений: дядюшка сразу же попытался повернуть все дело по-своему. Матерый купчина привык сам распоряжаться своим обозом, вот сейчас ему и в голову не пришло, что может быть как-то иначе: обоз он поведет, а Мишка с Младшей стражей и Егоров десяток при нем охраной. А потому как бы невзначай во время ужина накануне отъезда заговорил с Мишкой как о само собой разумеющемся:
– Значит так, племяш, хоть ты и сотник, да караван я веду. Илье укажу, куда становиться с санями, а ты вот что… Как выйдем, ты один десяток вперед посылай. Пусть они место для первой стоянки присмотрят. Егор со своими сзади пойдет, а мне приставь пяток отроков пошустрее, да посообразительнее, чтоб завсегда рядом держались – мало ли какое поручение отдать потребуется.
Мишка, даже не взглянув на своих, почувствовал, как сразу напряглись сидевшие тут же ближники. Уж что именно мальчишки подумали, неизвестно, но слова купца им не понравились. Присутствовавший при этом боярин Федор даже бровью не повел, от миски не оторвался, но Ратников нисколько не усомнился, что тот мимо ушей ничего не пропустил. Егор будто и не слышал разговора – его, мол, дело десятое, а уж его бойцы и подавно о чем-то своем переговаривались. Впрочем, и тут Мишка отметил – уж больно невозмутимая физиономия у десятника, прям как у отца Феофана давеча на пиру. Илья завозился на своем месте, но тут же сделал вид, что только для того, чтобы плеснуть себе в кружку слабого, словно квас, пива. Пили сегодня умеренно.
«Ловок дядюшка! Но на Федора и Егора оглядывается. Уверен, что его поддержат? Интересно, он нарочно так устроил, чтобы вы сейчас при всех или его воле покорились, или принялись спорить как пацан? А вот хрен ты угадал, анкл Ник – командир должен быть один. И это не ты. Не конвой при обозе, а обоз под конвоем пойдет. Тут уж у нас консенсуса не получится – слишком дорого мне такие поддавки обойдутся».
А кроме этого соображения было и ещё одно: дядюшку следовало медленно, но верно приготовить к тому, что собирался с ним проделать Ратников – приучить к хомуту, чтобы выскользнуть из него он уже не смог. Не он будет Лисовинов для умножения своего состояния использовать, а Лисовины его состояние на достижение своих целей поставят. Не без выгоды для купца, само собой, и выгоды, которой многое окупится, но и так, что назад у дядюшки пути уже не останется.
Пока что Никифор, как любой начинающий олигарх, воображал, что купил сотню и сможет теперь ею вертеть по своему усмотрению. Его капитал для него превыше всего – сразу и цель, и средство и способ, а сотня – инструмент для его умножения и охраны. Потому и Мишкину Младшую стражу рассматривал всего лишь как конвой при караване. О том, что может быть наоборот и, главное, что непременно будет наоборот, он не догадывался.
«Рассуждая в терминах теории управления, точнее, её составной части – теории игр, дядюшка сам себя видит не НА доске, а ЗА ней – игроком, а не фигурой. Что его оценка в корне неверна, мы ему пока объяснять не станем, чтобы сам не догадался, пока до самого седалища крючок не заглотит, так, что вырвать его можно будет только вместе с жизненно важными органами. Пока что он может и назад попятиться, а если ему сейчас это сойдёт с рук, то он и в самом деле в игроки проскользнёт. Так что ваша задача, сэр, – легким пинком вернуть его обратно на доску, с которой он в мечтах уже воспарил, да ещё и поставить его в нужную позицию. Тягловым конем. И заставить ходить в нужном направлении. Нам нужном, а не ему, разумеется.
Первый шаг – заставить эту перемену ролей на уровне обоза и его охраны проглотить и не подавиться, неважно, под каким соусом, главное – готовить его следует постепенно и вдумчиво».
Когда-то, ещё ТАМ, Михаил Ратников то ли слышал, то ли прочитал, что если лягушку бросить в кастрюлю с кипятком, то она обварится, но из кипятка выскочит живая, а вот если ее посадить в ту кастрюлю и воду под ней подогревать медленно, то она сварится, так и не поняв, что произошло. Вот и с дядюшкой надо было поступать аналогичным образом, чтобы к приезду в Ратное он притерпелся к процессу «подогрева» и выскочить уже не мог. Доваривать и приправлять, в основном солью и перцем, можно уже дома…
Мишка неспешно поднял глаза на родственника и с легким удивлением пожал плечами.
– Зачем же тебе себя в дороге трудить, дядька Никифор? Не могу я такого позволить, уж извини. Ты себе спокойно езжай, не волнуйся за обоз. Он и так идет под защитой Младшей стражи, командовать которой назначен княжий сотник. Справимся. Илья Фомич у нас старшина опытный, он хорошо походный порядок понимает. Ты только своим приказчикам вели его слушаться, чтоб не пришлось их принуждать лишний раз. Мы, конечно, принудим, но зачем? По-родственному-то лучше… – и, ласково улыбнувшись дядюшке, развёл руками. – А что вперед надо разъезд послать, так это ты правильно говоришь. Только у нас это воинским порядком и без того определено, да и не только это, и говорить ничего не придется: каждый десятник знает, чего ему в дороге делать, верно, господин десятник?
– Верно, сотник, – не моргнув глазом, кивнул Егор, будто только и ждал Мишкиного вопроса.
Почудилась при этом мелькнувшая у него в бороде ухмылка или нет, Мишка так и не понял, но вот то, что дядюшку начало слегка перекашивать, несмотря на скудное свечное освещение, заметили, кажется, все. Может, у купчины и был соблазн выругаться и, саданув кулаком по столу, настоять на своем, но неожиданно всю мизансцену поломал боярин Федор. Он с шумным хэком поднялся из-за стола, привлекая к себе всеобщее внимание, оглядел присутствующих, задержав внимательный взгляд на Мишке, покрутил головой и повернулся к Никифору.
– Ну что, дождался светлого дня, Никеша? Подрос помощничек-то. А ты как хотел? Дык воины ж, тудыть их… Ты к ним своих детей послал, а не они к тебе, никто тебя в спину не пихал… Так что отдыхай, пусть боярич караван ведет, раз такое дело. А мы посмотрим… Пошли лучше спать, а то вставать завтра чуть свет.
«Опаньки, вот и герр Теодор к процессу «подогрева лягушки» подключился… Красиво он его по резьбе довернул и в верном направлении. Со смазкой про «пусть молодежь учится, а мы отдохнем», значит. И боярича припомнил к месту, политик. Свой облом с Катериной он анклу Нику не забудет, а посему этой «кулинарией» занимается с удвоенным удовольствием».
Вот таким образом и произошло перемещение Никифора из привычного для него разряда «Начальник экспедиции» в ранг пассажира VIP-телеги, за неимением мерседеса. Не сказать, что купцу это сильно понравилось, но особо и не насторожило. Утром он демонстративно держался в стороне от всех хлопот, беседуя о чем-то с Федором и подъехавшим к ним Григорием, а своему приказчику, отправлявшемуся в Ратное на замену покойному Спиридону, кивнул на Мишку:
– Сотник распоряжается. Ему под руку идешь, в Ратном Лисовины хозяева, привыкай…
И рявкнул, заметив на лице у того нарождающийся вопрос:
– Чего уставился? Племянника моего слушай, говорю! Он молодой, ему учиться надо, а мне и отдохнуть иной раз не грех… Пошел вон! – а обернувшись к Григорию, усмехнулся. – Я так решил: пусть племяш покажет, чему они там отроков учат, а мы с тобой в дороге присмотрим.
«Ну присмотри, дядюшка, присмотри… А мы мысль, нечаянно тобой высказанную, – что Лисовины главные – твоим обозным доведём. И не только им. Вон как Григорий прищурился – к сведению принял. Впрочем, как раз его такое положение дел должно устроить, ведь если и он захочет от сладкого куска откусить, то ему уже не с тобой договариваться надо, а с нами… А ведь захочет! По глазам вижу – непременно захочет!»
С удобством расположившись на потнике, брошенном на охапку лапника возле костра, загодя разведенного в стороне от остальной толпы, Мишка окинул взглядом собравшихся в круг своих ближников. Невольно вспомнился совет перед атакой на Пинск. Тогда он отметил, как возмужали и повзрослели его крестники за прошедшие несколько недель со времен их первого боевого похода за болото.
На войне детство кончается после первого боя и возраст считается иначе – не годами, а боями. Победами и поражениями. Вот и теперь Ратников присматривался к своим мальчишкам и сравнивал. Нельзя сказать, что в этот раз перемены в отроках оказались столь же разительны, скорее сама обстановка изменилась.
Тогда они собрались на военный совет. И держались соответственно – позади у них была война и впереди тоже маячила война. И они сами тогда жили только войной, ибо стали уже неотъемлемой ее частью, потому и места ничему иному не оставалось. Сейчас они возвращались с этой войны победителями, а сами себе наверняка казались почти былинными героями.
Тогда они стояли на тропе войны. Теперь участие в войне закинуло их на доску Большой Игры, а победа закрепила на ней, и сойти с этой доски они уже не могут, разве что битой фигурой. Вот это они пока что не понимают, и их сотнику ещё предстоит вдолбить в них это понимание, как и то, что даже на пешку в Большой Игре мы пока никак не тянем, разве что на фишку.
«Если уж довелось победить, то есть выжить на первых же ходах, то и плодами этой победы надо распорядиться правильно. В начале партии о победе речи вообще быть не может: не получили детский мат, и слава богу. Теперь главная задача – поставить фишку на доске так, чтоб не сожрали те, кто пожелает попробовать вас на зуб следующим ходом. Вот над вашей позицией, сэр, и надо подумать, потому что зубы заинтересованных лиц уже клацнули.
Теперь назвать нас сопляками, пожалуй, мало у кого язык повернется. Добыча и слава достались такие, что и взрослым воинам могут показаться немыслимой удачей. Ключевое слово здесь «показаться»… И для всех остальных так оно и должно остаться.
А вот ближникам своим вы сейчас это счастье поломаете, хотя о чем-то они уже догадываются. Судя по физиономиям, все они о цели предстоящего разговора прекрасно осведомлены, наверняка сами же и послали Роську с расспросами.
Ничего удивительного – дураков среди них нет. Мальчишки, конечно, но мальчишки, которых жизнь уже по своим жерновам старательно и со вкусом потаскала, да и вы сами с лордом Корнеем постарались из них тщательно вытряхнуть наивняк, который ТАМ у иных сохраняется чуть ли не до седых волос. Не могли они не задаться теми же вопросами, что и поручик Василий. И, следовательно, между собой что-то уже обсуждали; то-то эйфории на лицах не наблюдается – скорее невысказанные и глубоко запрятанные страхи.
Вот и надо их заставить эти страхи проговорить вслух, конкретизировать и локализовать, показать, что это не страшилка, не препятствие даже, а вполне решаемые трудности, закономерно возникающие при любом развитии событий в процессе управления чем-то, отличным от телеги с навозом. Да и у телеги на дороге время от времени попадаются колдобины да ухабы.
…Эх, жаль, шахмат с собой нет, с ними нагляднее получилось бы…»
– С шахматами вы все, господа Совет, более-менее знакомы.
– Ага! – хором, как в былые времена ответили Кузька с Дёмкой, Дмитрий им поддакнул, а остальные только кивнули.
«Спасибо покойному отцу Михаилу – и сам любил эту игру, и охотно учил всех, кто проявлял хоть малейшую заинтересованность. Не у всех получалось, но азы он всем вложил прочно… Вот и воспользуемся».
– Все вы не раз играли, и что такое доска и фигуры, вам объяснять не надо. А попробуйте представить себе игровую доску размером с Ратное или Погорынье.
– Или княжество… – пробормотал себе под нос Дёмка.
– Или княжество, – согласился Мишка. – Только вот на такой доске люди не в игрушки играются, а Играют. Всерьёз. Насмерть. Мы с вами только-только из одной игры вышли, но тут же вляпались в другую.
– Ты про что, Минь? – негромко спросил Дмитрий. – Про наш поход?
– И про него тоже, Мить. Война ведь тоже игра, но на ней хотя бы всё понятно. Вот тут свои, светлые фигуры, там – враги, чёрные. Слон топчет пешек, конь атакует слона, а ладья убивает ферзя…
– Ну, наша ладья князя как раз вывезла…
– Ладья-то вывезла, но получилось, что пешка поставила шах королю, а он в ответ вынужден был сделать свой ход. Если пешка встанет на правильную клетку, то король сделает именно тот ход, который нужен. Сам сделает. А если пешка встала глупо, то король сделает тот ход, который выгоден ему самому. И тогда может случиться, что пешка не встала, а подставилась. Умный король пользуется не только своими, но и чужими фигурами. При этом никто никого не убивает и даже, может быть, не угрожает. Но игра продолжается, а война уже идет. Позиционная война. Она всегда начинается перед большой кровью, но не всегда ею заканчивается. Все зависит от позиции, которую удастся занять.
– Отец Михаил говорил, иногда, чтобы выиграть позицию, жертвуют пешкой… – задумчиво вставил Дёмка.
– И планы той пешки при этом не волнуют никого, – мрачно отозвался Мотька.
– Ага. Что бы какая фигура про себя при этом ни думала. Взять хотя бы моего дядюшку, купца Никифора, – хмыкнул Мишка.
– А он-то тут при чём? – удивился Кузька.
– Ну как же! Он-то считает, что сорвал огромный куш, бросившись за нами вдогон и договорившись с князем Всеволодом: дескать, ладья догнала ферзя и стрясла с него добра доверху. А что ладья эта, хоть и тяжело гружённая, находится в позиции слабей пешки этого он пока ещё не понял.
– А почему слабей пешки, Минь?
– А ты вспомни ужин накануне выезда из Турова – что дядюшка нам вещал и с чем остался. Если переложить тот разговор на язык шахмат, то получалось, что он занял свободную линию и только было разбежался, как с одной стороны его путь перекрыл сильно резвый конь, а с другой грузно плюхнулась нехилая ладья. Ну и чего у него теперь с позицией? – риторически вопросил Мишка своих ближников. – И это мы ещё до Ратного не добрались, а там его аж целая сотня борзых коней поджидает, во главе с нехилым слоном-воеводой. Спрашивается, куда и насколько свободно из такой позиции Никифор ходить сможет?
– А мы кто? Кони? – поинтересовался Роська.
– Смотря для кого, Рось. Для воеводы Погорынского мы, пожалуй, пешки, а вот для князей пока и на мелкие фигуры не тянем. Так, фишки разменные… Пешек из нас только собрались делать, и пока непонятно, проходных или жертвенных.
– Что, все так плохо? И дорого княжья милость нам обойдется? – откинув в сторону непослушную прядь волос, Демьян хмуро посмотрел на брата, но в голосе его, несмотря на привычную угрюмость, отчетливо слышалось сочувствие, смешанное с надеждой, что Мишка сейчас развеет хотя бы самые худшие его опасения.
Ответить Мишка не успел, его опередил Митька.
– С кем воюем, Минь? – голос крестника звучал спокойно и деловито.
Похоже, Дмитрий уже все для себя решил, и ему не хватало только приказа, чтобы козырнуть, щелкнуть каблуками и отправиться выполнять распоряжение – готовиться к следующему походу. Да и остальные, как отметил про себя Мишка, при этих словах выдохнули: воевать им было привычно и понятно. Не с глупым щенячьим задором встрепенулись в ожидании драки – выветрился из них задор за этот поход окончательно и необратимо, но с уверенностью молодых воинов, которые иной судьбы себе уже не желали. И, прекрасно все понимая, ее не страшились, а напротив, считали единственно для себя возможной.
Один только Мотька хмуро и безучастно рассматривал что-то перед собой.
– Навоюемся, Мить, – Мишка, оторвав взгляд от Мотьки, серьезно посмотрел на Дмитрия. – Это не задержится.
– Так с кем воевать собираешься? – Мотька, похоже, только и ждал, когда сотник отвернется от него, чтобы наконец заговорить. То, что прозвучало в его голосе, Мишке не понравилось. Впрочем, и у остальных слова лекаря понимания не нашли. И опять первым вскинулся Дёмка:
– А ты? – Кого другого Демьян придавил бы одним взглядом, но у Матвея самого из глаз разве что искры не сыпались. – Ты что, не собираешься? Лекарь… – последнее слово Дёмка почти выплюнул, как оскорбление, но Матюха среагировал на него совершенно неожиданно:
– Если бы… Говна пекарь! Какого я, осла иерихонского, лекарь! Так, недоучка… А у нас калеченных только под Пинском сколько? Не считали? И я не считал, потому как не знаю, сколько их живыми до дома довезут! И сколько там ещё… – он хмуро оглядел всех и снова перевел взгляд на Дёмку. – А кто их выхаживать будет? Кто вам задницы драные штопать станет? Дунька эта малахольная? Юлька уйдет…
– Ах ты, сука!…
Демьян, с лицом, перекошенным как от внезапно дернувшего больного зуба, рванулся к Матвею, но на него с двух сторон навалились Митька с Кузькой.
«А ведь Дёмка-то из-за Юльки вскинулся! На вас, сэр, он и помыслить не может, а на Мотьку сорвался. За то, что тот его боль и страх сейчас вслух выговорил и тем самым сделал необратимыми».
– Отставить!
Успевший вскочить с места и готовый к драке Матюха замер на месте. Дёмка замычал что-то невнятное, но тоже перестал дергаться. Привычка к дисциплине сделала свое дело, и более суровых воспитательных мер не потребовалось. Мишка холодно посмотрел на Матвея.
– Сядь. И этого отпустите, – кивнул он мальчишкам. – Нашли время…
Дождавшись, пока Матвей опустился на место, а Демьян проплевался от попавшей в рот шерсти тулупчика, в который его со всего маха ткнули лицом, Мишка потянулся к кувшину с квасом, заботливо поставленному верным Антохой вместе с иной снедью на расстеленном вместо стола потнике.
– Налейте ему, – Мишка передал кувшин Кузьке, – а то завтра с утра войлок из задницы выковыривать придется…
Кузька, принимая посудину, только кивнул, даже не усмехнувшись шутке, да и все остальные смотрели серьезно: подчеркнутое спокойствие сотника, похоже, подействовало на отроков сильнее, чем любой крик и ругань.
– Кто лечить будет, говоришь? – Мишка обращался к Мотьке, но смотрел на Демьяна. – Ты и будешь. Если Юлька уйдет – значит, судьба. Или не судьба… Молчать! – Дёмка, порывавшийся что-то сказать, поспешно захлопнул рот. – Я сказал – уйдет, значит, так тому и быть. У нас свой долг – у нее свой, лекарский. И она ему не менее нашего предана. Так что ей и решать, чего от нее ее стезя потребует, и не нам про это судить. Настена тебя и дальше учить будет – она баба разумная, капризам воли не даст и больных не бросит. А нет, так в Туров к отцу Ананию поедешь. Эти проблемы решать будем по мере их поступления – в рабочем порядке. И да… Чтобы про Дуньку я не слышал больше – она боярышня Евдокия, – Мишка усмехнулся уголком рта. – Будущая боярыня Лисовинова.
– Князь-то точно не откажется? – прищурился Кузька. – Мало ли что там говорено, а пока сватовства не было… Или уже все решено?
Он задумчиво закусил соломину и вдруг протянул:
– Ну да… надо же князю Всеволоду чем-то свой сговор с ляхами прикрыть, а так оно красиво получается: мы, выходит, не в полон его взяли, а тебе невесту добыли. Мономашичи сотничьей гривной нам окончательно рты заткнули…
Кузька невесело усмехнулся и констатировал:
– Получается, Всеволоду, чтоб от других князей прикрыться, срочно пешка понадобилась. Вот он и сварганил ее по-быстрому, из попавшейся под руку шустрой фишки. Выходит, теперь ему прямой резон ту пешку при первой же оказии под бой подставить.
«Опаньки, сэр, приехали… Признайтесь, не ожидали вы такого пассажа от Кузьмы Лавровича? Скорее уж от Дёмки. Ну-ну, выросли ребятки. И то, что Кузька думать начинает – уже хорошо. Хотя и не совсем правильный вывод сделал, но, тем не менее, самостоятельный.
Вот только где это он такого нигилизма успел нахвататься? Надо думать, сказывается близкое знакомство с княжьим семейством на ладье. В том, что князья сделаны из того же теста, что и все прочие, и ничто человеческое им не чуждо, они своими глазами убедились, отсюда и некоторое разочарование. Они-то их считали выше обычных смертных – уж больно князья далеки и выглядят неприступными, когда за ними с галерки наблюдаешь. Этакие небожители… А оказалось, что и они тоже какают… и далеко не бабочками.
А у Кузьки сейчас ещё и переходный возраст, со всеми его прелестями, о себе знать дает. Цинизм у братца должен символизировать богатый жизненный опыт, надо полагать? У Дёмки-то с его вечным брюзжанием то же самое, в сущности, просто раньше проявилось. Да и остальные не слишком шокированы откровениями Кузьмы. Что ж, добро пожаловать в реальный мир, господа.
Главное теперь – не дать им в другую крайность удариться, а то сочтут, что князя можно мерить по тем же меркам, что и соседского дядьку, тем более – судить о его словах и поступках. Чревато. Ещё чреватей – судить о мотивах князя по его собственным словам и поступкам».
– Ну, кто что скажет? – Мишка оглядел ближников. – Ведь думали уже об этом, верно?
– Не мог князь Вячеслав так решить! – упрямо мотнул головой Дмитрий, правда, в его глазах таилась не уверенность в своих словах, а скорее надежда, что Мишка разрешит его сомнения. – Не мог… слишком уж это… Да и князь Городненский тоже. И если решили Ду… боярышню Евдокию за Миньку отдать, так всяко не из-за того, чтоб откупиться! И гривна сотничья – не цацка бабья, чтоб ей вот так… – разгорячился Дмитрий. – Значит, обдумали все. Да и кто мы такие, чтоб князья перед нами распинались – просто бы велели сотнику своим щенкам рот заткнуть и все. Не верю!
«Ловите момент, сэр. Концепции они вам уже выдают, ваше дело – правильно их соотнести с реальностью Игры».
– Нет, Мить, не стали бы князья от нас откупаться. Евдокия, если приложить к правилам игры, – это та клетка, которая делает фишку фигурой. Пока лишь пешкой. Это дядька Никифор может создать пешку и тут же ее угробить, за копеечную по сути прибыль. Разумный князь так не поступит, ибо это разрушение правил собственной игры. Фигуру создают для того, чтобы ее использовать. Это дорого – создать фигуру. Создать, прикрыть, дать сделать первый ход, расчистить клетку, поставить на нее, проследить за первыми ходами… Даже если он ее сдаст, то жертва должна окупиться…
– Дядька Никифор возле князя на ладье все время вертелся, наверняка про сватовство ему и нашептал… – Артемий задумчиво пожал плечами. – То-то боярин Федор не шибко этому радовался. Он и посейчас злой.
– Боярин понятно почему злой, – буркнул Дёмка. – Он свою Катерину за Миньку хотел выдать, давно все сговорено, а теперь поперек князя дед разве пойдет?
– И священника нам в Ратное заместо отца Михаила вон как быстро нашли, – неожиданно выдал Мотька. Неожиданно, потому как Мишка ожидал, что про отца Меркурия первым вспомнит Роська.
Впрочем, поручик Василий тут же согласно закивал:
– Ага, мы в монастыре слышали разговоры, там многие этому удивлялись… Ну, не хватает же священников, а тут сразу решилось. Стало быть, наш приход в епархии числится не последним – то есть клетка наша важная? И не абы кого к нам посылают: отец Меркурий сюда из самого Царьграда прибыл, с отцом Илларионом давно знаком. Говорят, тот сам его вызвал себе в помощь. Греков ученых и в самом Турове не много, думали, он там и останется при епархии, а его к нам, в глушь отправили.
– А с чего ты взял, что он ученый? – опять влез Кузька. – Дядька Савелий сказал – ратник он, только что в рясе. И правда, на воина больше похож, чем на монаха.
– Ну так ноги у него нет, может, после ранения и пошел в монахи, – Мотька рассудительно пожал плечами. – Он с нами в монастыре разговаривал… Точно, ученый. Хотя на отца Михаила покойного вовсе не похож.
«Блин, вот только ещё одной тёмной лошадки нам сейчас не хватало! Ладно, не о нём сейчас речь, это успеется».
– Так где же тебе такого второго взять? – Роська со вздохом перекрестился. – Таких, как отец Михаил, Царствие ему небесное, и во всем свете нету больше, наверное! И в монастыре про него то же говорили: истинно был святой человек. Такие в сотню лет один нарождаются, небось… Не иначе, он за нас и попросил Там Спасителя… – Роська снова перекрестился, теперь истово. – Вот нам удача и пошла в этом походе – ведь чудом же только… И князя пленили, и княгиню вызволили, и князь потому нам благоволил! С нами Бог, истинно! Да, Минь?
– Истинно, Рось, – кивнул Мишка. – Только с Божьей помощью и выкарабкались. На этот раз.
– Так, значит, Кузька прав? – Митька хмуро взглянул на своего сотника, словно ждал приговора. – Князья нас, как детей малых…
– Нет, Мить, не прав, – Мишка неспешно налил себе кваса. – Не стали бы князья от нас откупаться. И ты верно сказал: гривна – не разменная монета на торгу. И не награда это, а признание, что мы, Младшая стража, можем оказаться полезными князю в их княжеских играх. Но не думайте, что одной только доблестью мы себе такое признание добыли. То, что мы князя пленили и княгиню выручили, одно дело. Но всяко могло обернуться, если бы нас сочли опасными. Или неуправляемыми.
– Опасными? – Дёмка недоверчиво повертел головой. – И чем же это мы можем быть князю опасны? – он зло усмехнулся. – При нужде раздавит и не заметит…
– Не силой, конечно, опасными, а клеткой, на которую можем встать.
– В том-то и дело! – Дмитрий досадливо поморщился. – Против взрослых воев в бою мы не сила. И погибло у нас много, прав Матвей. Хорошо, в Турове отроков у Свояты забрали, – он коротко улыбнулся. – Я на днях говорил с ними – они от радости, что так повезло, не знают, каким святым молитвы возносить. Стараются… Но ведь их мало, да и учить их ещё и учить.
– Будет нам пополнение, – Мишка кивнул Дмитрию. – Отец Феофан обещал сирот собирать и нам присылать. Ляхи много весей разорили, бродяжки зимой в Туров потянутся непременно, монастыри всех накормить и приютить не в состоянии. А учить… Учить всех придется, и нам самим учиться тоже. Опыт в этом походе мы получили немалый, и если из него верные выводы сделаем, то в следующих потеряем уже меньше. Недаром говорят, что наука воевать кровью пишется.
Теперь князь… Он прекрасно понимает, что мы ещё в полную силу не вошли, но мы ему показали, что польза с нас уже сейчас есть. И это пока что наше главное достижение. Нас же в Турове проверяли все, кому не лень, со всех сторон рассматривали. Прикидывали, что за фигура объявилась и нужна ли она им на этом месте, кем и для чего поставлена.
– Тоже мне, купцы на торгу! – скривился Дёмка.
– Именно, Дём! А мы все – товар! Вы что же думаете, от нечего делать перед выходом в город дядька Арсений у отроков даже уши проверял – чистые ли? А друг его, Бояша, от встречи расчувствовался да по доброте душевной повел всю ораву в корчму, кормить-поить? Неет, на нас смотрели и оценивали. Разные люди – и на торгу, и в корчме, да везде, где появлялся хоть один из нас! И все это потом на весы легло и свое дело сделало. Так что мы свои головы сохранили и гривну заработали не только и не столько доблестью в бою, а если совсем честно, так и вовсе не доблестью.
Бой – что, прошел и все. Услуга, которую уже оказали, ничего не стоит, ценна только та, которую с нас можно получить в будущем. Так что для нас ничего не окончилось – все только начинается. Нас поставили держать позицию, и мы её удержали. Потому и домой сейчас едем, а не в порубе гниём. А гривна моя, и Дунь… боярышня Евдокия – не награда, а поводок, на котором собак водят. Ну так и поводок для пса – награда: дурных и непригодных к службе забивают…
– Значит, как ни воюй, а все одно у князя почета не сыскать! – зло сплюнул Дёмка. – Голову бы сберечь – уже за счастье.
– Возле князей – возле смерти. Или не знал? Не нами придумано.
– И чего от нас хотят? – криво усмехнулся Кузька.
– А вот это, господа совет, и есть главный вопрос… – Мишка обвел взглядом своих посерьезневших ближников, – и ответ на него нам теперь постоянно придется искать. Чего от нас хотят – на самом деле, а не то, о чем говорят вслух? Как нам извернуться, чтобы и князя не разочаровать, и свою голову на плечах сохранить? Да ещё и позицию получше занять, со всем, что к ней причитается. Кто до чего додумался?
– Да какая там позиция, голову бы удержать! – сплюнул Мотька.
– Нет, воюют не за голову, даже за свою собственную. Воюют либо за ресурс, либо за позицию. Пешку на правильной позиции без ущерба для себя не всякий ферзь сковырнуть сумеет. Если ты силён, то ходи и бей. Но если слаб, то ищи позицию.
Артемий будто только и ждал вопроса:
– Я так прикинул, Минь, князю именно то и глянулось, что мы не как все воюем. Латная конница, конечно, сила, но латная дружина у него и своя есть. А вот, как мы, дружинники не сумеют. И самострелов наших не знают. А то, как мы княгиню освобождали, даже дядька Егор оценил – сказал, никогда подобного не видел… Князю же это наверняка доложили. Вот я и думаю – теперь именно такие дела нам князь поручать и будет. Раз никто, кроме нас, не умеет. Так?
Мишка изобразил взглядом заинтересованность, поощряя Артемия к дальнейшим рассуждениям.
– А потому нам надо и дальше такому же учиться, чтобы лицом в грязь не ударить и доверие оправдать. И ещё можно всякое… Хотя бы побродяжками прикинуться: кто не знает, и не подумает на отроков, что вои. Или вон скоморохами. А самострелы в поклаже припрятать, мол, это у нас инструменты, а как рассядутся слушать, так…
«Вот они, вечные ценности, в смысле, банальные штампы, в полный рост. Эх, жаль, Голливуда нет, тебя бы туда сценаристом – с руками бы оторвали…»
Судя по выражению лиц ближников, остальные фантазий Артюхиной артистической натуры не разделяли. Первым не выдержал Дёмка, как самый прагматичный.
– Чего мелешь-то? Как ты самострелы спрячешь? Под гусли, что ли, раскрасишь? Найдут в поклаже – порубят, и выхватить не успеешь. И вообще, невместно воинам в скоморохов переодеваться – воевода не позволит. И прочие ратники таких ни во что ставить не будут. А князь и подавно… – скривился он. – Да и зачем это ему понадобится? Опять княгиню освобождать, что ли?
«Тьфу-тьфу-тьфу… И первый-то раз лишним был».
– Почему обязательно княгиню? – Артемий, похоже, никак не хотел отказываться от своей «гениальной» идеи – стать отрядом специального назначения с переодевашками при княжеской ставке, даром, что понятия такого не знает. – Ещё много чего случиться может… Непредвиденного.
– Чего, например? – поддержал Дёмку Димка.
– Да мало ли чего! – Артемий почесал в затылке. – Всякое. Вон, что княгиню похитят, тоже никто не ждал, однако случилось. И если бы не мы, неведомо чем закончилось бы.
– Тогда нам не в скоморохи надо, а всем у дядьки Стерва учиться, как разведчики.
Дёмка хоть и раскритиковал Артюхину фантазию, но сама идея ему, по-видимому, показалась разумной, во всяком случае, он продолжил развивать тему:
– И такие же одёжки лешачьи, как у них, на всех пошить. А самострелы не под гусли, а под такие же пятна зеленые раскрасить и на них махрушки разные налепить. И научиться всякому, как дядька Егор рассказывал, некоторые вои умеют – ночью видеть, под водой с соломинкой сидеть. Если подкрасться незаметно надо – одёжу и оружие в мешки кожаные непромокаемые сложить, и под водой. А в нужный момент выскочить, когда не ждут. А ещё с Прошкой поговорить, может ли он так собак выучить, чтоб они по команде тихо подкрадывались и сзади кидались по приказу…
«Тушите свет, сушите весла… Остапов понесло!»
– Погоди, Артюха, – тормознул полёт фантазии Мишка. – Всё, что ты нам сейчас вывалил – это ходы фигуры. Самостоятельные. А ходы нам пока недоступны, нам бы пока научиться стоять и держаться.
– Будет вам ерунду-то нести, не о том говорите! – отмахнулся от него Роська. – Вот что хотите со мной делайте, но не верю я, что наша доблесть так князя поразила. Он бы тогда при себе нас держал.
– Нет, князь так думать вообще не может! – возмутился Димка.
– Много ты знаешь, как князь думает! – вскинулся в ответ Артюха, но Дмитрия с мысли не сбил.
– Как он думает, я не знаю, – решительно тряхнул головой старшина. – Но вот так – точно не будет. Так думать может Корней Агеич. И то, не боярин Лисовин, а сотник, когда к бою готовится. Он думает, как десятки в бою использовать да кого куда поставить способнее, чтобы они больше пользы принесли, – лучников дядьки Луки, мечников, нас, Младшую стражу. А князь… Не так, и все!
Димка подумал ещё и добавил:
– Ну вон, когда я к Кузьме в кузню иду и прошу его самострел сделать или там кольчугу починить, я же не говорю ему, кого из помощников горн раздувать поставить, а кого – кольца клепать или ещё что. Мне от него оружие надобно получить. Так и тут…
– Но если мне кто знающий по железу потребуется для чего-то, а его помощника я отметил, как рукодельного, так я его у Кузьмы и уведу, – возразил Дёмка. – Или вон, боярин Корней велит – и заберет в Ратное, в кузню.
– А это мы посмотрим! – взвился Кузька, как будто брат и впрямь покушался на его помощников. – Уведет он! А дед и не станет. Да и зачем ему мои обалдуи сдались? Будто отец себе помощников в Ратном не сыщет при нужде… – он задумчиво почесал за ухом. – Вот и князь… Не вяжется тут что-то. Верно Митька говорит: мы для него сопляки ещё и против взрослых ратников – никто… Что мои бездельники против хоть бы и подмастерья туровского, но хорошо обученного – я там по торгу походил, видел, что они умеют, мне ещё учиться и учиться до того мастерства. Даже батя не все сможет повторить…
– Так я и говорю… – Артюха попытался было опять спорить, но Мишка остановил его движением руки и с интересом поглядел на Кузьку:
– Продолжай.
Тот замялся, прикидывая про себя, как точнее выразить свои мысли, и решительно рубанул воздух рукой:
– Если бы князь решил, что от нас какой-то толк со временем выйдет, или мы при нужде и сейчас в походе на что сгодимся, то он по-другому все сделал бы. Он бы милость свою оказал, конечно, одарил чем-нибудь, но скорее через деда. А так, как тебя, и не всякого бывалого сотника награждают. И гривна, и земля под усадьбу. Так? Значит, именно мы, такие как есть, хоть ещё и не воины, а ему надобны… И вопрос – зачем мы ему такие? И не только князю Вячеславу – князю Городненскому тоже. Хоть мы его и пленили, и людей его побили, а он вон Евдокию за Миньку сватает, да так, что и отказаться никак нельзя. Хоть и не княжна, но ему она, как дочь, значит, и приданое за ней хорошее даст. Ему, выходит, тоже от нас чего-то надобно? Минь, уже известно, что за Евдокией дают?
– Землю, Кузя. И боярство, коли эту землю удержим.
– Коли удержим? – переспросил Дмитрий. – И где же та земля?
– Далеко. На порогах, что за Городно.
От такой новости мальчишки моментально напряглись – смысл сказанного до них дошел сразу.
– У ятвягов?
– Да. У тех татей, что вместе с ляхами пришли…
– Значит, не мог ты отказаться, Минь, – Дмитрий не спрашивал, а отвечал на свои мысли. – Никак не мог. Иначе всем бы тогда головы не сносить.
– И так, похоже, не сносить, – хмуро констатировал Дёмка. – Поляжем мы там. С ятвягами воевать – не татей единожды из схрона выманить… Вот тебе и княжья милость! И ведь сами полезли… Надо было исполнять, что воеводой велено, а мы, дураки, обрадовались – князя пленили! Знали же, что Всеволод Городненский родня князю Вячеславу, вот и пусть бы сами они промеж себя решали по-родственному… – зло сплюнул он.
– Это и есть жертвенная пешка, Минь? – встрял с теорией Кузька.
– Надеюсь, что проходная. Судьба у них по большей части похожа, но у проходной изначально есть и шанс, и цель.
Мишка налил себе ещё кваса и ответил уже Дёмке:
– Да, сами влезли. Только не прав ты, Дём, мы ошиблись не тогда, когда князя пленили, а раньше. Когда коров пасли, думать надо было. Сидели же себе спокойно – чего нам не хватало? Тепло и сытно… Многие и посейчас так сидят, а мы, дурни, циркус затеяли и крепость строить взялись… – он пристально оглядел остальных. – Что, распускаем всех, да по печкам?
– Не выйдет теперь, по печкам, Минь, – усмехнулся Кузька, – вляпались уже… Только что теперь делать-то? Наших сил пока не хватит…
– Как – что делать? Воевать! – у Дмитрия на этот счет не было никаких сомнений. – И Корней Агеич Младшую стражу не бросит. Сотня сто лет в Погорынье среди язычников выстояла – небось, им не легче было.
– То сотня… Что ещё воевода скажет? – насупился Дёмка. – Устроит он нам… встречу.
– Устроит, конечно, – согласился с братом Кузька. – Только против княжьего слова и он не пойдет. Это и есть сильная позиция, да, Минь? Недаром боярин Федор на Погосте задерживаться не собирается – я сам слышал, как он говорил с дядькой Никифором, что тоже с нами в Ратное едет. Да и дед…
Кузька замолчал на полуслове, подергал себя за вихры и протянул:
– Во-он оно что! А я-то голову ломал, зачем мы князю? Выходит, мы ему без надобности, только вот мы не сами по себе – мы при сотне… И земли, что за Евдокией дают, нам самим не занять и не отстоять. Так что из-за сотни князь нас и привечал! Так пешку поставил, что теперь сотне деваться некуда – она может ходить только так, как князем задумано.
– Сотню? – с сомнением пожал плечами Дёмка. – Но сотня и так князю служит, воевода по княжьему слову и сотню, и нас, и все дружины боярские поднимет и пойдет, куда велено…
– Так то по княжьему слову! – Кузька отмахнулся от брата. – А то сами. Пойдём и там осядем… Да, Минь? Только зачем?…
– Так, Кузя, – кивнул Мишка. – Верно мыслишь. А зачем… Князю земли нужны. Они пока языческие, для князя это все равно что ничьи, а сядет там его боярин – станут княжьими… – Мишка подмигнул внимательно слушающему Дмитрию. – Вот, Мить, и ответ на твой вопрос, чем князь думает… Если сотник думает десятками, воевода – дружинами боярскими, то князь – землями. Погорынье и так уже его.
Сотня свою задачу выполнила, и нужды в воинской силе тут больше нет. Тем более такой – кованой рати. Через поколение Ратное станет просто селением, ну, самое большое – городком, боярин Корней Агеич о своей вотчине позаботится, конечно, но сотня и ему без надобности – ее заменит боярская дружина. Он потому и поддержал нашу Академию, чтобы воинское умение вовсе не выродилось. Только все равно, если меч в ножнах держать, он ржой покроется. И с людьми то же самое. Князья сотней делают ход. Как конем. И сотня должна занять и удержать освободившуюся клетку.
Так что сотне придется или уходить туда, где ее воинская сила и умение в дело пойдут, или она не то что никому тут не нужна – она опасна станет. Конечно, нам бы ещё несколько лет поучиться да возмужать, но тут, как Бог рассудил. Это наша удача, от которой грех отказываться. Конечно, кровью за нее заплатим, и немалой, но по-другому и не бывает. Какая ставка в Игре, все помнят?
– Сотня среди язычников именем Божьим выстояла! – Роська грохнул себя по колену. – Свет Христианства несла в земли языческие, а Господь ее хранил. И нас не оставит! Я так думаю – он нас и ведет на эту стезю.
– Да, Рось, и это тоже, – согласился с крестником Мишка. – Только у нас, кроме веры, ещё и помощь будет немалая. Сотня сюда когда-то шла сама по себе, а у нас за спиной очень крепкие фигуры стоят: и Никифор с казной, и другие купцы – им интересно путь по Неману обезопасить, опять же князь Городненский не просто так Евдокию замуж отдает – он и о ее будущем печется. Значит, поддержит нас.
И святая церковь тоже – отец Меркурий неспроста нашелся. И ещё пришлют священников, когда на пороги двинемся. Не только мы своими мечами и самострелами свет истинной веры понесем – вера сама по себе оружие. Мы выполняем волю церкви, а она поддерживает нас. Сотня в Погорынье крепко встала, когда утвердила здесь христианство, а нам предстоит то же самое сделать на порогах – чтобы не оборону среди язычников держать, а своими их сделать… Но про это мы не раз поговорим – дома уже, а может, и в дороге ещё соберемся.
«Хватит для начала, сэр. Считайте, что вы сейчас провели вводное занятие к практическому курсу «Управление административной единицей Великое княжество в условиях зарождающегося феодализма» для командного состава будущей государственной элиты. Пусть это переварят».
Затянувшуюся было паузу прервал Артемий – он первый пришел в себя от свалившихся мальчишкам на голову перспектив и в силу характера почувствовал необходимость разрядить общее напряжение.
– Значит, за Городно идти… – дурашливо почесал он в затылке и скорчил разочарованную физиономию. – А я-то думал, мы в Туров теперь насовсем переберемся… Минька в чести у князя, боярином станет, там вон какая усадьба! Если построиться – можно всю Младшую стражу разместить.
– А тебе непременно в Туров надо? – хмыкнул Кузька. – Или боишься, девки там осиротеют? Глашка-то утром провожать прибежала. Или это Клавдюха из-за овина выглядывала и тебе знаки какие-то делала? Я в утренних сумерках и не разобрал… – под дружный смех остальных добавил он.
– А тебе завидно? – Артемий и не думал смущаться. – Да и не было ничего такого – я ей песню пообещал на бересту списать. Уж очень девкам понравилось, что мы накануне вечером пели. Про калину…
– Ага, ты бы ей ещё про дружинушку списал, – недовольно буркнул Роська. – Охальник. Греха не боишься!
«А вот это я пропустил… Артюха-то не терялся, оказывается. И он ли один? Вот ещё наказание! С сыном ТАМ об этом не думал, а тут… Не приведи Господи – девка какая после нашего гостевания в подоле принесет да на нас покажет? Женить пора засранцев, ей-богу. Причем женить с пользой для рода, а не как получится. Вот ещё заботу матери принесу…
Но с другой стороны, хорошо, что мальчишки разговор на баб свернули: самое то, чтобы им сейчас напряжение снять… Жаль, тут футбола нет! Научить, что ли? Кожаными мячами в Турове мальчишки на улице играли…»
– Какой же грех может быть от радости? – удивился меж тем Артюха. – А песня – она завсегда радость. А кроме песен и не было ничего. Или я вовсе без ума?
Он смерил Роську насмешливым взглядом и ехидно ухмыльнулся:
– Это у тебя против бабьего племени никакой защиты нет. Вот попомни мое слово – уведет тебя какая-нибудь девка, как телка на веревочке, и даже замычать не успеешь!
У поручика Василия от возмущения аж уши вспыхнули. Он смерил Артюху полным сожаления взглядом и провозгласил наставительно:
– Это тебя, как телка, блудницы на веревочке к греху тянут. Ибо ты на них с вожделением смотришь, а значит – уже согрешил. А блудники и прелюбодеи Царства Божия не наследуют. На жен взирать бесстрастно надобно – тогда они власти над нами иметь небудут…
«Ох, как тут все запущено, спасибо покойному отцу Михаилу, прости Господи…В их-то годы, да чтоб на девок бесстрастно смотреть? Этак и до импотенции недалеко. Нет, точно, как в том анекдоте – замуж, дура! Срочно замуж! В смысле – женить… И жену подобрать горячую, чтоб мозги на место встали».
На остальных отроков Роськина проповедь впечатления не произвела, и хотя спорить с ним о Святом Писании никто не решился, однако и поддержки его слова не встретили. Артюха только отмахнулся:
– Кто о чем, а ты о вожделении. Говорю тебе – наши песни девкам понравились. Да и сами они голосистые оказались. Кабы подольше там побыли, я бы такой хор затеял – не хуже, чем в крепости на посиделках! Вон дочери плотников едут – уж на что им нынче не до песен, а я вчера вечером слышал – две тихонько напевали что-то. Узнать бы чьи, голоса чистые, будто ангельские. Может, и ещё есть.
– Девки? – заржал Кузька. – Есть, как же… Даже и ничего очень. Какие у них голоса, не знаю, а вот это самое, – он изобразил руками в воздухе нечто волнообразное, должное обозначать очертания девичьих прелестей, и закончил под общие смешки, – все на своих местах!
Нет, не напрасно Ратников в своей прошлой жизни не любил всякие непредвиденные сюрпризы, внезапно сваливающиеся на голову поперек хорошо продуманным планам. Вот как-то не сложились у него с ними отношения – и все тут. Даже и приятные сами по себе вещи, функционируя в пожарном режиме, могут создать массу неприятностей, а уж неожиданные неприятности – и подавно… В последние годы жизни ТАМ так получалось, что «везло» именно не на нежданные праздники и подарки, а на катастрофы, включая вдовство, арест и следствие, когда жизнь резко и стремительно ломала свое течение, обрушиваясь, как река на порогах – и только щепки во все стороны.
Да, собственно, и здешний его опыт это только подтверждал – тот же князь на переправе, свалившийся у них на дороге, будь он неладен. Поэтому, когда на Княжьем Погосте навстречу передовому отряду из ворот выехали трое отроков с самострелами, Мишка напрягся в нехорошем предчувствии: его северный тезка – в просторечии большой пушистый песец – в очередной раз норовил подкрасться с тыла и вцепиться в загривок. Причем чувство это только усилилось, когда в самом мелком из всадников он узнал младшего брата.
Сенька пыжился изо всех сил, стараясь выглядеть как можно солиднее. Казалось, он и задумал этот выезд из ворот Княжьего Погоста навстречу возвращавшемуся из похода воинству, чтобы произвести впечатление на старшего брата. Затея, надо сказать, удалась, хотя и не совсем так, как рассчитывал самый младший Лисовин: уж очень потешно выглядела Сенькина мордаха в попытке соответствовать торжественности момента. И даже тревога, с которой молодой сотник встретил неожиданное появление братца, не умалила его стараний.
Мишка, скрыв улыбку, оценил и выправку, и лихой доклад по всей форме, но, отвечая на приветствие, совсем забыл про свою сотничью гривну, что не вовремя сверкнула из-под распахнувшегося тулупа. Она-то все и испортила. Сенькины глаза распахнулись, увеличившись чуть ли не вдвое, резко поменяли фокус, словно приклеившись к шее брата, а строго официальное выражение сползло с ребячьей физиономии и сменилось настолько восторженным обалдением, что стало понятно: весь остальной мир для Сеньки с этого мгновения перестал существовать. Он ничего не слышал и не видел, кроме золотой сотничьей гривны. Точно такой же, как у деда.
– Минь… – наконец, сглотнув, растерянно выдал мальчишка, окончательно разбивая вдребезги всю им же задуманную торжественность обстановки, и захлопал глазищами. – Это… это что?.. Гривна?.. Сотничья? Настоящая?.. А как?..
Лица его старших спутников – Леньки с Гринькой – выражали не меньшее обалдение, но парни сумели удержать себя в руках и промолчали, не поддавшись порыву, простительному младшему. То, что сопровождали Сеньку именно они, Мишка сразу отметил про себя, как дополнительный звоночек, подтвердивший его опасения: появление отроков в полутора переходах от Ратного, да ещё в таком составе, ничего хорошего не сулило, что не отменяло искренней радости при виде живых и здоровых купчат. Хоть и слышал он, что курсанты коммерческого отделения Академии благополучно добрались до крепости, но одно дело знать и совсем другое – убедиться в этом собственными глазами. Правда, слегка подпортило эту радость не к месту всплывшее воспоминание о том, что Ленька с Гринькой – родичи той самой вдовицы Арины, о судьбе которой отчего-то так неожиданно и подозрительно беспокоились самые разные люди в Турове – от дядюшки Никеши до мутного типа, приставшего к Мишке на пиру.
Благодаря тому, что Арина, кстати сказать, весьма привлекательная молодая женщина, неожиданно свалившись им всем на голову, умудрилась совершенно непонятным образом с ходу, можно сказать, изгоном взять такую неприступную крепость, как сердце Немого, и, с дедова благословения, была признана членом семьи, делало и этих мальчишек почти родичами. Во всяком случае, не чужими. Мишка ничего против такого родства не имел, тем более что где-то в обозе маячил отнюдь не бедный купчина Григорий, отец Леньки и дядька Гриньки. На глаза сотнику и бояричу он особо не лез, но, тем не менее, выдал пару весьма прозрачных намеков, позволявших строить некие, пока ещё смутные планы о создании противовеса ушлому дядюшке.
То, что Сенька прибыл на Княжий Погост в сопровождении исключительно лисовиновской родни, заставляло думать, что сделано это не просто так. Особенно если учесть, что дед и вся сотня должны уже находиться на месте, в Ратном.
Мишкины наихудшие ожидания оправдались, когда после приветствий Сенька, переварив новости про гривну и княжью милость, вспомнил, наконец, о своих обязанностях гонца и принялся докладывать о том, что произошло дома в их отсутствие. Новости оказались такими, что доклад пришлось прервать, и продолжил его Сенька уже в горнице боярина Федора, где собрались ближники, включая Илью, Егоров десяток и самого боярина. Герр Теодор желал знать подробности последних событий во вверенном ему территориальном округе.
А рассказывать было что! В Ратном случился самый настоящий холопский бунт, да такой, что едва-едва отбились. Корней чуть-чуть не успел – парой бы дней раньше, и сотня как раз подгадала бы к самому побоищу. Но и так не сплоховали: с Божьей помощью, бунтовщиков побили, а немногих сумевших уйти от расправы сотня до сих пор упорно и аккуратно вылавливала по лесу. Правда, и среди ратнинцев потерь хватало.
Холопы убили Беляну, жену Аристарха, а его самого тяжело ранили воины из-за болота, торопившиеся на подмогу бунтовщикам. Староста каким-то образом загодя узнал об их подходе и с теми ратнинцами, которые хоть как-то могли держать в руках оружие, включая немногочисленных новиков и даже воинских учеников, из засады перебил чужаков, но при этом попал под удар сам, да так, что Настена за его жизнь не ручалась.
Сеньку же в сопровождении старших отроков послала в погостную церковь боярыня Анна, заказать молебен о возвращении Михайлы и Младшей стражи. Вполне понятный порыв обеспокоенной матери, после всех событий переживавшей за судьбу старшего сына.
Боярин Федор не на шутку встревожился, как бы его дружок не закусил удила и от ярости не наломал дров вместе с головами. Егор тоже рвался домой: его жена, хоть телесно и не пострадала, но после всего случившегося слегла в горячке. Посему единогласно решили дневку не устраивать, а переночевать и с раннего утра трогаться в путь.
Но на этом сюрпризы судьбы не закончились. Поздно вечером Сенька, уже без свидетелей, тайно передал старшему брату послание от матери, предназначенное только для него. Оно-то и заставило Мишку сразу выкинуть из головы все предыдущие неприятности.