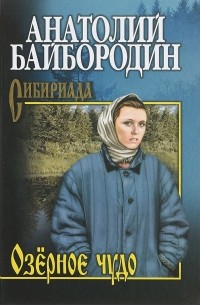Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
ХХV
За столом, когда сытых ребятишек турнули в горницу, мать поразмыслила вслух:
– Надо, однако, в деревню перебираться. Чо же там ребятишки будут одни бедовать?! Зиму бы дотерпели, летом – сюда, а уж по осени кочевать надо. На будущий год и Верку в школу отдавать…
– Ясно море, надо вам домой кочевать, – согласился Илья. – А мне к лету угол дадут. Начальство сулило… Новый барак рубят, уже под крышей. Так что мы с Фаиной Карловной…
Мать исподлобья глянула на сына:
– Ты, парень, тоже не придуривай. А сошлись, дак и живите ладом, по-божески. Хва, поди, гулеванить-то.
– Фая в Иркутск манит, а мне неохота…
– Верно, – поддержал его Иван Житихин. – Чего попусту дергаться?! Тут все родно, все привычно, а там бог знат какие фортеля жизнь выкинет.
– Во-во, шибко нужны мы в городе, деревня битая.
– Хвали заморье, а сиди дома – надежнее. Так что, Илья…Шыбырь, даже и не сомущайся…
– Я чо, Иван, и талдычу ей: прижми, говорю, терку и не трепыхайся. В деревне жили, в деревне жить будем, в деревне и похоронят…
– Кого буровишь?! Окстись! – мать привычно перекрестилась, обернувшись к божнице. – Похоронят… Думай своей башкой, кого плетешь – мать постучала по непутной Ильюхиной голове. – Долго ли беду накаркать…
Выманил Илья у матери заначенный спирт – таила поясницу растирать – и, запалив керосинку с протертой до незримости стеколкой, выпил с Иваном за мать, потом развернул прихваченный из деревни баян, и в глухой лесничьей избе, непривычная ей, хмельно и протяжно закачалась слезливая, застольная старина:
– По мне лишь бы чадушки мои счастливо жили, по-божески, а самой уж ничо не надо, – прослезилась мать под сыновью песнь.
– Достались тебе, Ксюша, ребятишки, – Иван обнял сестру за опавшие плечи. – Это кому сказать, не поверят: одиннадцать раз с брюхом ходила, троих малыми оплакала, пятерых в войну одна ростила… Петро воевал, потом два года в отсидке… И теперь еще трое заскребышей…
– Иной бабе телята, а мне ребята… Да, Ваня, уж вроде и вся моченька вышла. Не подыму, однако, малых…
– Подымешь… Ишо и внуков будешь нянчить. Оно, конечно, испила ты, сестрица, горьку чашу. Но и нету счастья без дождя и ненастья… А и сладкая чаша твоя, Аксиньшка, – исполнила свое бабье назначение, воздаст Господь милостивый… Да и будет кому на старости лет стакан воды подать…
Ранним утром Ванюшка видел, как прощались с Ильей, который уже сидел верхом на жеребчике: кока Ваня в нагольном полушубке, почесывая грудь, зябко потряхивая плечами, дымил на крыльце махру, а мать, уцепившись за стремя, печально глядя на сына, молила:
– Ты уж, Илья, Фаю-то жалей… Коль уж сошлись, дак и живите дружненько, по-руськи, по-божецки. Не обижай…
– Ты, мама, за нее не переживай, – сама кого хошь обидит.
– Лишний раз не перечь ей.
– Да я, мама, шибко-то и не перечу, но и… под каблуком жить не буду. Я не брат Степан…
– Ой, беда с тобой, Ильюша…
– Ничо-о, мама, ничо. Живы будем, не помрем, и станцуем, и споем… Ну, я поехал.
– С Богом, сынок, – мать перекрестила сына в дорогу. – Да шибко-то коня не гони – неровен час, скинет. Ишь урось-то какая…
Илья пустил жеребчика легкой рысью, но посреди поля вдруг пришпорил, и конь перешел в лихой намет.
– Тьфу ты! – досадливо сплюнула мать на дорогу и заплакала. – От ить чо творит, а! Уж не малый, поди, а все бы казаковать. Ох, доскачется, однако… помилуй, Господи, раба твоего… – мать побожилась на светлеющий восток.