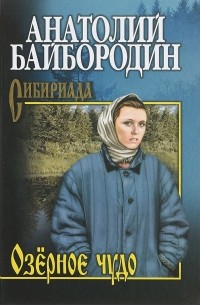Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
ХIII
– Почему ты все Пугачихе раздаешь?! – корил Иван дочь. – Надо же маленько-то поумнее быть. Сколько уже ручек перебрали, карандашей, тетрадок, – всё Лильке уперла.
– Она мне тоже все дает, вотушки, вотушки! – снова огрызнулась Оксана, глядя в пол и едва сдерживая плач; но Иван, распалив душу, ничего уже не чуял, а лишь дивился настырности и непонятливости своей дочери, гадая при этом: и в кого она такая непутная уродилась?.. Да уж в мать, поди, в ее родову, – там непуть на непуте.
– О-о-ой, ой! Не свисти, дорогуша, знаю я твою Пугачиху: за копейку удавится… Да Господь с ним, с клятым рублем, хотя мы с матерью еще деньги не печатаем, но надо же… надо же маленько-то беречь свое. Люди за копейку горбатятся, надо же это понимать, беречь… А что вы с Пугачихой сегодня дома утворили?! Та, зараза, хитрая, к себе-то шибко не зовет…
– Брось, отец, пусть ребенок спокойно поест, потом будешь свои морали читать, – Ирина восстала за дочь, да поздно – Ивана понесло.
– А-а-а, говори не говори, все бестолку! Что в лоб, что по лбу!.. Меня, вон, отец пошлет куда, так в лепешку, бывало, расшибешься, лишь бы ему угодить. Глазом, бывало, поведет, уже несешься сломя голову, а и сам, бывало, не ведаешь, куда и бежишь… А попробуй зубы выказать – уши с корнем выдернет. Вот и почитали, боялись… А нашей – слово, она тебе десять поперек, – Иван сердито глянул на понурую дочь. – Такие все, паря, умные стали, некого… послать, – он чуть было не сматерился. – Я такой-то был, уже вовсю дома помогал. А нашу заставь-ка полы мыть?! А заставишь, так не рад будешь, – казарму можно выскоблить и вышоркать, пока она три половицы вымоет. Да и те надо перемывать, – грязь разотрет… Я годом постарше был, так с отцом уже и в лес ездил по жерди… сено косил, копны возил… А летом каждый Божий день на рыбалке. Мать в потемках силком поднимет с постели, весла в зубы и дуй… Спать охота, – вечером же с дружками набегаешься допоздна, – и вот сидишь в лодке, клюешь носом. Весь промокнешь, промерзнешь насквозь, а вечером ведро рыбы домой прешь. Не для забавы рыбачил, а уж с первого класса семью рыбой кормил… А Оксану мы извадили, – накинулся Иван на жену. – Привыкли: неженки да поцелуйчики. Посуду надо мыть – ладно, завтра помоет, пусть ребенок спит, притомился… за ужином ложкой махать… А как она потом изнеженная жить будет? Думаешь, она нас добрым словом помянет?! Ее же затыркают, заклюют, как дурочку последнюю. Я такой-то побойчее был…
– Да ладно тебе, разворчался, как старый хрыч…
– А-а-а!.. – Иван раздраженно махнул рукой. – Бог с вами, как хотите, так живите!..
– Ничего, ничего, она у нас умненькая растет, – Ирина притиснула к себе дочь, сидящую подле, и жалостливо огладила ее русую голову. – Ешь, Оксаночка, ешь…
– Во-во, кушай, кушай, никого не слушай.
– Правильно, не слушай его, отец нынче с левой ноги встал. Вот и разоряется…
– Ты что, опупела?! – Иван выпучил глаза на жену. – Ты что ребенку говоришь?! Ты хоть маленько-то соображай своим куриным умишком…
– А что, неправда?.. Если у тебя плохое настроение, мы-то здесь при чем?! Зачем на нас-то зло срывать?! Ешь, Оксаночка, ешь, не обращай внимания.
– Во-во, – горько скривился Иван, – пожалей еще, потом и вовсе от рук отобьется. На шею сядет и ножки свесит.
– И пожалею. Если мы не пожалеем, кто еще пожалеет.
– Давай, давай, жалей, она потом такие нам подарочки поднесет, за голову схватишься.
– Да не мучь ты ребенка, вот прилип, банный лист, – Ирина туже прижала к себе дочь, чмокнула ее в макушку, но Оксана, стойко вынесшая попреки отца, откровенную материнсую жалость перенести не смогла, – глянула на отца с матерью болезненно круглыми, измаянными глазами и, опрокинув с грохотом стул, выбежала в горницу, лишь платье мелькнуло, взметнувшись стрекозиными крыльями. Забравшись в темный шкаф под висящие на плечиках платья и рубахи, дала волюшку слезам, – чуть приглушаясь одеждой, из неплотно притворенных створок вынесся безудержный плач.
– Ну вот, видишь, до чего ребенка довел! – Ирина почти ненавидяще, коротко глянула на взъерошенного мужа. – Она и так, бедненькая, в школе выматывается, и дома никакого покоя. В классе все кому не лень дразнят – Дунькой обзывают, и тут не чище.
– Так что, совсем попуститься? – скандально прищурил глаз Иван. – Пусть растет как трава, да?
– Не так учат. Можно по-человечьи сказать, не психовать. А то ворчишь, ворчишь, – вылитый папаша.
– А ты моего отца не трогай! Он, может, получше нас с тобой был.
– Да уж куда там! Пил да гонял вас, как сидоровых коз. Жаловался, а сам теперь не чище своего папаши.
– А-а-а, надоело все, с тобой же бесполезно говорить!.. – Иван опять резко взмахнул рукой, отсекая от себя болезненно забурливший спор, чтобы не всплеснулся обычным кухонным скандалом, после которого спадал с глаз тихий, сонный туман, заголяя всю неразрешимую, оттого и бессмысленную, пустоту жизни, лежащей впереди, навроде голой, заснеженной степной дороги, ведущей в никуда, где ни деревца, ни кустика, ни приманчиво-желтого, живого огонька.