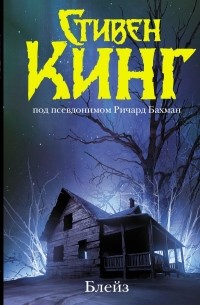Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава 9
Когда Клайтон Блейсделл-младший попал в Хеттон-Хауз, его возглавляла директриса. Он не помнил ее имени, только седые волосы и большие серые глаза за очками. Помнил, что она читала им Библию, а утренний сбор всегда заканчивала словами: «Будьте хорошими детьми, и вас ждет процветание». Однажды она не появилась на работе, потому что у нее случился удар. Поначалу Блейз подумал, что люди говорят, будто у нее случился угар, но потом все понял: удар. Такая головная боль, которая не проходит. Директрису сменил Мартин Кослоу. Блейз никогда не забывал этой фамилии, и не только потому, что дети прозвали нового директора Закон. Блейз не забывал этой фамилии, потому что Закон преподавал арифметику.
Уроки арифметики проходили в кабинете номер 7 с желтым деревянным полом на третьем этаже, где зимой стоял такой холод, что яйца отмерзли бы и у бронзовой мартышки. На стенах висели портреты Джорджа Вашингтона, Авраама Линкольна и сестры Мэри Хеттон. Сестра отличалась бледностью лица, а черные волосы, забранные назад, на затылке образовывали пучок, похожий на дверную ручку. Иногда после отбоя Блейз видел перед собой темные глаза сестры, и они всегда его в чем-нибудь обвиняли. По большей части в тупости. В том, что он слишком туп для школы, как и говорил Закон.
В кабинете номер 7 всегда пахло мастикой для пола, а запах этот вгонял Блейза в сон, даже если он входил в комнату бодрым и отдохнувшим. Под потолком висели девять ламп в обсиженных мухами матовых шарах, которые в дождливые дни заливали комнату тусклым, печальным светом. Переднюю стену занимала черная грифельная доска, над которой закрепили зеленые учебные плакаты с округлыми, по методу Палмера, буквами алфавита, прописными и строчными. После алфавита шли цифры, от 0 до 9, такие красивые, что от одного их вида ты чувствовал себя еще большим тупицей и неумехой. Парты были изрезаны накладывающимися друг на друга слоганами и инициалами. Большая их часть практически стерлась (столешницы периодически ошкуривали и красили вновь), но полностью уничтожить следы творчества учеников не удавалось. Все парты крепились к полу через железные диски. На каждой располагалась чернильница, наполненная чернилами, изготовленными компанией «Картерс инк». Того, кто проливал чернила, пороли ремнем в туалете. Пороли и за черные следы от каблуков на желтом полу, и за баловство на уроке. Последнее называлось Плохим поведением. Пороли и за многое другое: Мартин Кослоу верил в эффективность ремня и Палки. Палки Закона в Хеттон-Хаузе боялись больше всего, даже больше чудовищ, которые прятались под кроватями маленьких детей. Палка являла собой березовую лопатку, очень тонкую. Чтобы уменьшить сопротивление воздуха, Закон просверлил в ней четыре дырки. Он играл в боулинг за команду «Фалмутские рокеры», и по пятницам иногда приходил в школу в рубашке для боулинга. Темно-синей, с его именем, вышитым золотыми буквами над нагрудным карманом. Для Блейза буквы эти выглядели почти (но не совсем) как на палмеровских плакатах. Закон говорил, что в боулинге, как и в жизни, если человек упорно к чему-то стремится, страйки придут сами собой. Правой руке после всех этих упорных тренировок и точных бросков силы хватало, и если он сек кого-то Палкой, боль была жуткая. Все знали, что он прикусывал язык, когда наказывал мальчика Палкой за особо Плохое поведение. Иногда прикусывал так сильно, что язык начинал кровоточить, и какое-то время в Хеттон-Хаузе был мальчик, который называл его не только «Закон», но и «Дракула». А потом мальчик исчез, и больше они его не видели. «Вырвался» – так они говорили про тех, кого взяли в семью и оставили, может, даже усыновили.
Мартина Кослоу боялись и ненавидели все воспитанники Хеттон-Хауза, но больше всех боялся и ненавидел его Блейз. С арифметикой у Блейза очень, очень не ладилось. Он еще мог прибавить два яблока к трем, но с большим трудом, а сложение четвертинки яблока с половинкой уже находилось за пределами его понимания. Насколько он знал, яблоко делилось лишь на куски, которые влезали в рот.
Именно на арифметике Блейз впервые смошенничал – с помощью своего друга Джона Челцмана, тощего, уродливого, нервного, переполненного ненавистью мальчишки. Ненависть эта редко давала о себе знать. По большей части она удачно скрывалась за толстыми линзами перевязанных лейкопластырем очков и частым визгливо-идиотским смехом. Джон был естественной жертвой для более старших, сильных парней. И били его регулярно. Мазали лицо грязью (весной и осенью) и умывали снегом (зимой). Рубашки ему часто рвали. И он постоянно появлялся из душевой с задом, отхлестанным мокрыми полотенцами. Но всегда вытирал снег или грязь, заправлял подол разорванной рубашки и продолжал визгливо смеяться, потирая раскрасневшиеся ягодицы, и ненависть не проявляла себя. Как и его ум. Учился он хорошо (очень хорошо, ничего не мог с собой поделать), но в Хеттон-Хаузе отметки выше «В» ученики получали редко. Не приветствовались такие отметки. Отметка «А» говорила о том, что ты считаешь себя умником, а умников ждала трепка.
Блейз тогда начал прибавлять и в росте, и в ширине плеч. В одиннадцать-двенадцать лет он ничем не выделялся среди остальных, а тут начал расти. Стал таким же большим, как и многие из ребят постарше. Но он никого не обижал на игровой площадке и не хлестал полотенцем в душевой. Как-то раз Джон Челцман подошел к нему, когда Блейз стоял у забора в дальнем конце игровой площадки, ничего не делая, лишь наблюдая, как вороны садятся на ветки деревьев и взлетают с них. Он предложил Блейзу сделку.
– В этом полугодии Закон опять будет учить тебя математике, – напомнил он. – Дроби продолжаются.
– Я ненавижу дроби, – ответил Блейз.
– Я буду делать за тебя домашнюю работу, если ты больше не подпустишь ко мне этих гадов. Конечно, буду делать ее так, чтобы он ничего не заподозрил, ни на чем тебя не поймал, но достаточно хорошо, чтобы ты получил проходной балл. Чтобы потом тебе не пришлось отстаивать.
Джон говорил еще об одном наказании, не таком плохом, как порка, но тоже малоприятном. Наказанного ставили в угол кабинета номер 7 лицом к стене. И он не мог взглянуть на часы.
Блейз обдумал предложение Челцмана, покачал головой.
– Он узнает. Меня вызовут на уроке, и он узнает.
– Ты будешь оглядывать комнату, словно думаешь, – ответил Джон. – А я о тебе позабочусь.
И Джон позаботился. Он решал все домашние задания, а Блейз переносил решения в свою тетрадь, пытаясь копировать те самые цифры на плакатах метода Палмера, которые висели над классной доской. Иногда Закон поднимал его с места и задавал вопрос, и тогда Блейз вставал и оглядывался, смотрел куда угодно, только не на Мартина Кослоу, и это удивления не вызывало: так поступали практически все, кого вызывал Закон. Оглядываясь, он смотрел в том числе и на Джона Челцмана, который сидел рядом со шкафом, где хранились книги, положив руки на парту. Если число, которое хотел услышать Закон, не превышало десяти, количество вытянутых пальцев давало ответ. Если это была дробь, поначалу руки Челцмана сжимались в кулаки. Потом они разжимались. Левая рука давала числитель. Правая – знаменатель. Если знаменатель превышал пять, пальцы Джона вновь сжимались, а потом показывали нужное число уже на обеих руках. Блейз без труда ориентировался во всех этих сигналах, многие из которых сложностью превосходили сами дроби.
– Ну что, Клайтон? – спрашивал Закон. – Мы ждем.
– Одна шестая, – отвечал Блейз.
И он не всегда давал правильный ответ. Когда рассказал об этом Джорджу, тот одобрительно кивнул.
– Прекрасно организованная афера. Когда она лопнула?
Лопнула она через три с половиной недели, и Блейз, когда подумал об этом (думать он мог, просто на это требовалось время и много-много усилий), осознал, что Закон, возможно, с самого начала с подозрением воспринял его неожиданно проклюнувшиеся математические таланты. Просто не подал виду. Травил веревку, которая требовалась Блейзу, чтобы повеситься.
А потом Закон неожиданно устроил контрольную. И Блейз получил ноль. Потому что все примеры были на дроби. Контрольная проводилась с одной-единственной целью: поймать Клайтона Блейсделла-младшего. Под нолем Закон сделал запись ярко-красными буквами. Блейз не смог разобрать написанного и обратился к Джону.
Джон запись прочитал. Помолчал. Потом посмотрел на Блейза.
– Здесь написано: «Джона Челцмана снова начнут бить».
– Что? Как?
– Тут сказано: «Явиться в мой кабинет к четырем часам».
– Почему?
– Потому что мы забыли про контрольные, – ответил Джон. И тут же добавил: – Нет, ты не забывал. Я забыл. Потому что думал только об одном: что эти гады перестали меня бить. Теперь ты меня побьешь, Закон выпорет, а уж потом за меня возьмутся все эти гады. Господи Иисусе, как же я хочу умереть! – И казалось, он действительно этого желал.
– Я не собираюсь тебя бить.
– Нет? – По взгляду чувствовалось, что Джону хочется в это поверить, но он не может себя заставить.
– Ты же не мог решить за меня контрольную, правда?
На двери кабинета Мартина Кослоу, комнаты довольно приличных размеров, висела табличка «ДИРЕКТОР». Внутри, чуть в стороне от окна, стояла небольшая доска, припудренная мелом и исписанная примерами на дроби (причиной прокола Блейза). Окно выходило на жалкий приютский двор. Когда Блейз вошел, Кослоу сидел за столом и хмурился не пойми на что. С приходом Блейза появилась возможность хмуриться на что-то конкретное.
– Постучись, – бросил директор.
– Что?
– Выйди за дверь и постучись, – приказал Закон.
– Ой. – Блейз развернулся, вышел, постучал, вошел.
– Спасибо тебе.
– Не за что.
Теперь Кослоу хмурился, глядя на Блейза. Взял карандаш. Принялся постукивать по столу. Красный карандаш для проверки контрольных и выставления отметок.
– Клайтон Блейсделл-младший. – Закон выдержал паузу. – Такое длинное имя для столь короткого ума.
– Другие парни называют меня…
– Мне без разницы, как называют тебя другие, меня не интересует ни твое прозвище, ни те идиоты, которые его используют. Я – учитель арифметики, моя задача – подготовить таких подростков, как ты, к средней школе (если такое возможно), а также научить их понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Если бы моя ответственность ограничивалась только арифметикой (и иногда мне хочется, чтобы так оно и было, мне часто этого хочется) – тогда другое дело, но я ведь еще и директор, то есть обязан доносить до учеников разницу между хорошим и плохим, quod erat demonstrandum. Вам известно, что означает quod erat demonstrandum, мистер Блейсделл?
– Нет, – ответил Блейз. Сердце у него провалилось в пятки, и он чувствовал, как влага подступает к глазам. Для своего возраста он был парнем крупным, но сейчас ощущал себя таким маленьким. Маленьким и продолжающим уменьшаться. И пусть он знал, что именно этого и добивался Закон, ощущения его не менялись.
– Нет, и никогда не будет известно, потому что, даже если ты пойдешь во второй класс средней школы, в чем я очень сомневаюсь, шансов усвоить геометрию у тебя не больше, чем у фонтанчика с водой в конце коридора. – Закон сцепил пальцы в замок и откинулся на спинку стула, который качнулся назад. Вместе со стулом качнулась и висевшая на спинке рубашка для боулинга. – Это означает «что и требовалось доказать», мистер Блейсделл, вот я и доказал с помощью этой маленькой контрольной, что ты – обманщик. Обманщик – это человек, который не знает разницы между хорошим и плохим. QED, quod erat demonstrandum. Отсюда и наказание.
Блейз смотрел в пол. Услышал, как выдвинулся ящик стола. Что-то из него достали, ящик задвинулся. Блейзу не требовалось поднимать взгляд, чтобы понять, что именно держит в правой руке Закон.
– Я терпеть не могу обманщиков, но признаю твои умственные недостатки, а потому понимаю, что в этой истории замешан кто-то второй, еще хуже тебя. Именно он подкинул эту идею в твою тупую голову, а потому убедил тебя сойти с пути истинного. Ты следуешь за моей мыслью?
– Нет.
Язык Кослоу высунулся вперед, и зубы сомкнулись на его кончике. Палку он держал все так же крепко или даже сжал чуть сильнее.
– Кто решал тебе примеры?
Блейз молчал. Выдавать Джона он не собирался. Все комиксы, все телепередачи, все фильмы говорили одно и то же: «Выдавать нельзя». Особенно твоего единственного друга. И было что-то еще. Что-то, требующее озвучивания.
– Вы не должны меня пороть, – наконец сформулировал он.
– Да? – На лице Кослоу отразилось изумление. – Вы так говорите? Это почему же, мистер Блейсделл? Пролейте свет. Я заинтригован.
Блейз, может, и не понимал тех умных слов, что слетали с губ Закона, но взгляд этот знал очень хорошо. Сталкивался с такими взглядами всю жизнь.
– Вас совершенно не интересует, сможете вы научить меня чему-то или нет. Вы просто хотите, чтобы я чувствовал себя униженным, и вы готовы уничтожить любого, кто хоть немного пытается этому помешать. Это плохо. И вы не должны меня пороть, потому что вы сами поступаете плохо.
Изумление исчезло с лица Закона. Теперь его сменила безумная злоба. Он разозлился до такой степени, что на лбу запульсировала жилка.
– Кто решал тебе примеры?
Блейз молчал.
– Как ты мог правильно отвечать на уроках? Как тебе это удавалось?
Блейз молчал.
– Это был Челцман? Я думаю, тебе помогал Челцман.
Блейз молчал. Стоял, сжав кулаки, дрожа. Слезы текли из глаз, но теперь он не думал, что это слезы жалости к себе.
Кослоу размахнулся палкой и ударил Блейза по руке, повыше локтя. Звук от удара напоминал выстрел из пистолета или револьвера малого калибра. Впервые учитель ударил Блейза не по заду, хотя, когда он был поменьше, ему выкручивали ухо (а раз или два – нос).
– Отвечай мне, безмозглый лось!
– Пошел на хрен! – выкрикнул Блейз; то, что рвалось наружу, наконец-то обрело свободу. – Пошел на хрен! Пошел на хрен!
– Подойди сюда. – Глаза Закона, вылезшие из орбит, стали огромными. Рука, державшая Палку, побелела. – Подойди сюда, ты, мешок Божьего говна!
И Блейз подошел – потому что переполнявшая его ярость уже вырвалась наружу и потому что был еще ребенком.
Двадцать минут спустя, выйдя из кабинета Закона с прерывистым дыханием, которое со свистом вырывалось из горла, и кровоточащим носом (но с сухими глазами и не разомкнув рта), Блейз стал легендой Хеттон-Хауза.
С арифметикой он покончил. Весь октябрь и большую часть ноября вместо кабинета номер 7 он приходил в кабинет номер 19. Блейза это вполне устраивало. Спать на спине он смог только через две недели, но и тут возражений у него не было.
В конце ноября Блейза вновь вызвали в кабинет директора. Перед доской сидели мужчина и женщина средних лет. Блейзу они показались высохшими. Напомнили листья, которые поздней осенью сдувает с деревьев ветер.
Закон занимал привычное место за столом. Рубашка для боулинга нигде не просматривалась. В комнате царил холод, в распахнутое окно вливался яркий, пусть и бледноватый свет ноябрьского солнца. Закон обожал свежий воздух. Прибывшая парочка на холод, похоже, не жаловалась. Сухой мужчина был в сером костюме с подложенными плечами и в узком галстуке. Сухая женщина – в жакете из шотландки и белой блузке. По натруженным кистям (у него – мозолистым, у нее – красным, с потрескавшейся кожей) у обоих змеились вены.
– Мистер и миссис Боуи, вот мальчик, о котором я говорил. Сними шапку, юный Блейсделл.
Блейз снял бейсболку «Ред сокс».
Мистер Боуи оценивающе оглядел его.
– Большой парень. Вы говорите, ему только одиннадцать?
– В следующем месяце исполнится двенадцать. Он будет вам отличным помощником.
– У него ничего такого нет, правда? – спросила миссис Боуи высоким и пронзительным голосом. Казалось странным, что такой голос вырывается из необъятной груди, которая вздымалась под жакетом. – Ни туберкулеза, ни чего-то еще?
– Он проходил диспансеризацию, – ответил Кослоу. – Все наши мальчики регулярно ее проходят. Это требование штата.
– Может ли он колоть дрова, вот все, что меня интересует. – Лицо у мистера Боуи было худым и изможденным, как у неудачливого телепроповедника.
– Я уверен, что сможет, – ответил Кослоу. – Я уверен, что тяжелая работа – это для него. Я говорю про тяжелую физическую работу. А вот арифметика – не по его части.
Миссис Боуи улыбнулась. Одними губами.
– Числами занимаюсь я. – Она повернулась к мужу. – Губерт?
Боуи задумался, потом кивнул.
– Да.
– Пожалуйста, выйди из кабинета, юный Блейсделл, – предложил Закон. – Я поговорю с тобой позже.
Вот так, не дав вымолвить ни слова, Блейза отправили на попечение семьи Боуи.
– Я не хочу, чтобы ты уходил. – Джон сидел на койке рядом с Блейзом, наблюдая, как тот укладывает в сумку на молнии свои скромные пожитки. Большую их часть, в том числе и сумку, он получил от Хеттон-Хауза.
– Я сожалею. – Но Блейз не сожалел, точнее, по большому счету сожалел не об этом: ему лишь хотелось, чтобы Джонни мог поехать с ним.
– Они начнут бить меня, едва ты уедешь. Все. – Его взгляд бегал взад-вперед, и он ковырял свежий прыщ на носу.
– Нет, не начнут.
– Начнут, и ты это знаешь.
Блейз знал. Он также знал, что с этим ничего не поделаешь.
– Я должен ехать. Я – несовершеннолетний. – Он улыбнулся Джону. – Несовершеннолетний, сорокадевятилетний, чертовски сожалею, Клементина.
Блейз определенно пытался пошутить, но Джон даже не улыбнулся. Наклонился к Блейзу, крепко сжал его руку, словно хотел навсегда запомнить, какая она на ощупь.
– Ты никогда не вернешься.
Но Блейз вернулся.
Боуи приехали за ним на старом «форде» – пикапе, который несколькими годами раньше непонятно зачем выкрасили в маркий белый цвет. В кабине хватало места на троих, но Блейза отправили в кузов. Он не возражал. С нарастающей радостью наблюдал, как Хеттон-Хауз сначала уменьшался в размерах, а потом и вовсе исчез.
Они жили в огромном ветхом фермерском доме в Камберленде, граничащем с одной стороны с Фалмутом, а с другой – с Ярмутом. К дому вела проселочная дорога, так что стены покрывали тысячи слоев дорожной пыли. Дом не красили с незапамятных времен, а перед ним стоял щит-указатель с надписью «КОЛЛИ БОУИ». Слева от дома находился огромный вольер, в котором постоянно бегали, лаяли и скулили двадцать восемь колли. Некоторые линяли. Шерсть падала с них огромными клоками, обнажая нежную розовую кожу, в которую так и норовили впиться выжившие зимой блохи. Справа от дома тянулся заросший сорняками луг. За домом высился огромный старый амбар, в котором Боуи держали коров. Площадь участка, принадлежащего Боуи, составляла сорок акров. На большей части росла трава, которую косили на сено, семь акров занимал лес.
Когда они прибыли, Блейз выпрыгнул из кузова с сумкой в руке. Боуи взял ее.
– Я отнесу это в дом. А ты хочешь поколоть дрова.
Блейз в недоумении уставился на него.
Боуи указал на амбар. Несколько сараев, построенных зигзагом, соединяли его с домом. Груда чурбанов, ждущих, когда их расколют, лежала у стены одного из сараев. Некоторые напилили из клена, другие из сосны, так что на коре кое-где виднелись потеки застывшей смолы. Перед грудой стояла старая колода с воткнутым в нее топором.
– Ты хочешь поколоть дрова, – повторил Губерт Боуи.
– Ох, – вырвалось у Блейза первое слово, которое он произнес в их присутствии.
Боуи наблюдали, как он подошел к колоде, вытащил из нее топор. Осмотрел его. Потом положил в пыль. Собаки прыгали и лаяли. Маленькие колли верещали пронзительнее всех остальных.
– Ну? – спросил Боуи.
– Сэр, я никогда не колол дрова.
Боуи бросил сумку на молнии в пыль. Подошел, поставил на колоду кленовый чурбан. Плюнул на ладонь, потер руки, взял топор. Блейз пристально следил за каждым его движением. Боуи вскинул топор над головой, потом руки пошли вниз. От удара чурбан разлетелся на две половинки.
– Вот. Их можно класть в печь. – Он протянул топор Блейзу. – Теперь ты.
Блейз поставил топор между ног, плюнул на ладонь, потер руки. Вскинул топор над головой, вспомнил, что не поставил на колоду чурбан. Поставил, вновь вскинул топор, ударил. Чурбан развалился на две половинки, почти такие же ровные, как у Боуи. Блейз порадовался своему успеху. А в следующее мгновение уже лежал в пыли, в правом ухе звенело от крепкого удара сухой, сильной руки Боуи.
– За что? – спросил Блейз, глядя на Боуи снизу вверх.
– Не знаешь, значит, как колоть дрова, – хмыкнул Боуи. – И прежде чем ты скажешь, что твоей вины тут нет… парень, моей тоже нет. А теперь ты хочешь поколоть дрова.
Его поселили в крохотной каморке на третьем этаже ветхого дома. Места хватало только для кровати и комода. Стекла в единственном окне покрывал такой слой пыли, что за ними все искажалось. Ночью в комнате было холодно, по утрам – еще холоднее. Холод у Блейза недовольства не вызывал, не то что чета Боуи. Они как раз вызывали все большее недовольство, которое переросло в антипатию, а потом и вовсе в ненависть. Накапливалась она медленно. У Блейза по-другому и не бывало. Росла сама по себе, а когда выросла, пышно распустилась красными цветами. Это была та ненависть, которую человеку интеллигентному знать не дано. Чистая ненависть, не замутненная рефлексией.
В те осень и зиму он переколол много дров. Боуи пытался научить его доить коров, но у Блейза не получалось. Как говорил Боуи, у Блейза были грубые руки. Коровы нервничали, как бы нежно он ни пытался браться за соски. Их нервозность приводила к тому, что перекрывались молочные протоки. Поток превращался в ручеек, а потом полностью иссякал. За это Боуи никогда не надирал ему уши и не бил по затылку. Он не желал приобретать доильные агрегаты, не верил в доильные агрегаты, говорил, что они годятся только для коров в расцвете сил, но признавал, что ручная дойка – это талант. А потому нельзя наказывать человека за то, что таланта этого у него нет. Не будешь же наказывать того, кто не умеет писать, как он говорил, стиши.
– Зато ты умеешь колоть дрова, – добавлял он без тени улыбки. – К этому у тебя большие способности.
Блейз колол чурбаны и носил поленья, заполняя дровяной ящик на кухне четыре, а то и пять раз в день. Дом можно было обогревать и печным топливом, но Губерт Боуи пользовался им только в феврале. Потому что стоило оно дорого. Блейз также расчищал подъездную дорожку длиной в девяносто футов после каждого снегопада, скидывал с сеновала сено, чистил коровник и мыл полы в доме.
По будням он вставал в пять утра, чтобы покормить коров (в четыре, если шел снег) и позавтракать до того, как подъедет желтый автобус, который отвозил его в школу. Боуи, если б могли, конечно же, не отпускали бы его учиться, но такой возможности у них не было.
В Хеттон-Хаузе Блейз слышал разные истории о школах – как хорошие, так и плохие. Большинство плохих рассказывали ребята постарше, которые ходили в среднюю школу Фрипорта. Блейз был еще слишком юн для этой школы. Живя у Боуи, он ходил в школу Первого района Камберленда, и ему там нравилось. Нравилась учительница. Нравилось заучивать стихотворения, вставать во время урока и декламировать: «Аркой выгнулся мост…» Он декламировал эти стихотворения, стоя в красно-черной клетчатой куртке (он ее не снимал после того, как однажды где-то оставил, когда они отрабатывали эвакуацию из школы в случае пожара), зеленых фланелевых штанах и зеленых резиновых сапогах, вытянувшись во все свои пять футов и одиннадцать дюймов (рядом с ним другие шестиклассники казались карликами), с сияющим лицом и вмятиной во лбу. Никто не смеялся над Блейзом, когда он читал выученные наизусть стихи.
У него появилось много друзей – хотя все знали, что он из сиротского приюта, – потому что он ни над кем не издевался, никого не задирал. И никогда не дулся. На игровой площадке Блейз был всеобщим любимцем. Иной раз таскал на своих плечах сразу троих первоклассников. Он никогда не пользовался преимуществом в росте и силе. Случалось, в игре его пытались повалить одновременно пять, шесть, семь игроков, он качался из стороны в сторону, обычно улыбаясь, подняв к небу изувеченное лицо, и в конце концов падал, как дом, под радостные крики остальных. Миссис Васлевски, католичка, однажды во время своего дежурства на игровой площадке увидела, как он таскает на себе первоклассников, и начала называть его святым Франциском малышей.
Миссис Чини поощряла его интерес к чтению, письму, истории. Она сразу поняла, что для Блейза математика (он называл ее арифметикой) – темный лес. Однажды попыталась учить его, но он сразу побледнел и, как ей показалось, чуть не грохнулся в обморок.
Он соображал медленно, но не был умственно отсталым. К декабрю продвинулся от приключений Дика и Джейн, которые читали первоклашки, к «Дорогам ко всему», историй для третьего класса. Она дала ему классические комиксы, которые держала в картонных папках, и разрешила взять их домой, указав в записке, что чтение этих комиксов – его домашнее задание. Любимым стал, конечно же, «Оливер Твист», которого Блейз перечитывал снова и снова, пока не заучил наизусть.
Эта новая жизнь плавно перетекла в январь и могла продолжиться до весны, если бы не помешали два события. Блейз убил собаку и влюбился.
Он ненавидел колли, но ему вменялось в обязанность кормить собак. Они были чистопородными, но плохая еда и постоянное пребывание в вольере приводили к тому, что они становились уродливыми и нервными. Большинство отличалось трусостью, и при попытке погладить их они отпрыгивали в сторону. Они могли бросаться на тебя, лаять и скалить зубы только для того, чтобы тут же отскочить и попытаться зайти с другой стороны. Иногда они нападали сзади. Могли легонько прихватить за икру или ягодицу, прежде чем отпрыгнуть. А во время кормежки поднимали жуткий гвалт. Губерт Боуи собак не касался. Ими занималась исключительно миссис Боуи. Носилась с ними, как курица с яйцом. Всегда надевала красную куртку, когда приходила к собакам, и в некоторых местах куртка эта стала желтовато-коричневой от налипшей на нее шерсти.
Боуи редко продавали взрослых животных, но по весне щенки легко уходили по двести долларов. Миссис Боуи объяснила Блейзу важность хорошей кормежки собак, приготовления, как она говорила, «хорошей смеси». Однако сама она собак никогда не кормила, а их кормушки Блейз заполнял смесью, которая покупалась на распродажах в Фалмуте, в магазине, торгующем кормами для животных. Смесь эта называлась «Собачья радость». Губерт Боуи называл ее «Дешевая жратва» или «Собачий пердеж», но только не в присутствии жены.
Собаки знали, что Блейз их не любит, боится их, и с каждым днем становились все более агрессивными. К тому времени, когда действительно похолодало, иной раз они и спереди подходили достаточно близко, чтобы куснуть его. Ночью он нередко просыпался от кошмарного сна, в котором собаки разом набрасывались на него, валили на землю и начинали жрать живьем. Проснувшись от такого сна, лежал в кровати, выдыхая белый пар в темный воздух и ощупывая себя, чтобы убедиться, что он цел и невредим. Он знал, что все на месте, знал разницу между сном и реальностью, но в темноте разница эта заметно уменьшалась.
Несколько раз злобный лай и попытки укусить приводили к тому, что он рассыпал еду. И ему приходилось собирать ее с утрамбованного снега, а собаки рычали и бесновались вокруг.
Со временем один пес стал лидером в их необъявленной войне с Блейзом. Одиннадцатилетний кобель. Звали его Рэнди. Один его глаз был затянут бельмом. Блейз боялся пса до ужаса. Зубы Рэнди казались ему огромными желтыми бивнями. По центру головы тянулась белая полоска. Рэнди всегда атаковал Блейза в лоб, с приближением наращивая скорость. Здоровый глаз сверкал, а второй оставался безразличным ко всему, мертвым. Лапы поднимали фонтанчики желто-белого снега. Кобель разгонялся так, что, казалось, ему достаточно как следует оттолкнуться, чтобы взлететь, держа курс на шею Блейза. А уж потом на него набросились бы другие собаки, распаленные этой атакой. Но в последний момент когти Рэнди вгрызались в снег, забрасывая ошметками зеленые штаны Блейза, пес убегал по широкой дуге, но лишь для того, чтобы вернуться и повторить свой маневр. С каждым днем он тормозил все ближе и ближе, так что Блейз ощущал идущий от собаки жар и даже дыхание.
И однажды, в конце января, Блейз вдруг осознал, что на этот раз Рэнди не остановится. Он не знал, чем эта атака отличалась от любой другой, но она отличалась. На этот раз Рэнди не собирался ничего имитировать. На этот раз он твердо решил прыгнуть и вцепиться Блейзу в горло. А в следующую секунду на него набросились бы все остальные собаки. Как уже случалось во сне.
Пес приближался, молча набирая скорость. На этот раз он не собирался зарываться когтями в снег. Не собирался тормозить и убегать. Задние лапы напряглись, Рэнди оттолкнулся, взлетел в воздух.
Блейз нес два стальных ведра, наполненных «Собачьей радостью». Когда он увидел, что Рэнди настроен серьезно, страх как рукой сняло. Блейз бросил ведра в тот самый момент, когда Рэнди прыгнул. На нем были толстые кожаные рукавицы. Он встретил летящего пса правым кулаком, ударил под длинную морду. Удар болью отозвался в плече. Рука мгновенно и полностью онемела. Что-то коротко и резко хрустнуло. Рэнди перевернулся в холодном воздухе на сто восемьдесят градусов и с глухим стуком приземлился на спину.
Блейз осознал, что другие собаки замолчали, лишь когда они залаяли вновь. Он поднял ведра, направился к кормушке, вывалил в них смесь. Раньше собаки всегда набрасывались на еду, сражаясь за лучшие места, прежде чем он успевал добавить в смесь воды. Сейчас же, когда один молодой колли, вывалив язык из пасти, попытался пристроиться к кормушке, Блейз замахнулся на него, и колли метнулся в сторону с такой прытью, что земля ушла у него из-под лап, и он повалился на бок. Другие собаки тут же попятились.
Блейз добавил в кормушку два ведра воды.
– Вот. Смесь намокла. Идите и ешьте.
И направился к Рэнди, тогда как собаки принялись за еду.
Блохи уже покидали остывающее тело Рэнди, чтобы умереть на заляпанном мочой снегу. Здоровый глаз стал таким же тусклым, как и слепой. Блейз опечалился, в нем заговорила жалость. Может, пес всего лишь играл. Просто пытался напугать его.
И, ничего не скажешь, преуспел в этом. За то, что произошло, Блейза могла ждать изрядная трепка.
Опустив голову, он зашагал к дому с пустыми ведрами. Миссис Боуи была на кухне. Она поставила в раковину ребристую доску, стирала на ней занавески и пела псалом своим пронзительным голосом.
– Эй, не оставляй следов на моем полу! – крикнула она, увидев Блейза. Пол был ее, но мыл-то его он. На коленях. В груди проснулась тоска.
– Рэнди мертв. Он прыгнул на меня. Я его ударил. Убил.
Ее руки вынырнули из мыльной воды, она заголосила:
– Рэнди? Рэнди! Рэнди!
Заметалась по кухне, схватила свитер с крючка у дровяной плиты, побежала к двери.
– Губерт! – крикнула миссис Боуи. – Губерт, ох, Губерт! Такой плохой мальчик! – А потом завела: – О-о-о-о-о-О-О-О-О-О… – как будто продолжая петь псалом.
Затем оттолкнула Блейза и выбежала из дома. Мистер Боуи появился из одной из многочисленных дверей сараев, вошел на кухню, на его тощем лице отражалось изумление. Шагнул к Блейзу, схватил за плечо, развернул к себе:
– Что случилось?
– Рэнди мертв, – ровным голосом ответил Блейз. – Он прыгнул на меня, и я его уложил.
– Подожди. – И Губерт Боуи побежал вслед за женой.
Блейз снял красно-черную куртку, сел на табуретку в углу. Снег на сапогах таял, образуя лужицу. Его это не волновало. Жар от дровяной плиты опалял лицо. Дрова колол он. Его это не волновало.
Боуи пришлось вести жену, потому что она прижимала фартук к лицу. И громко рыдала. Высокий пронзительный голос напоминал стрекотание швейной машинки.
– Иди в сарай, – велел ему Боуи.
Блейз открыл дверь. Боуи пинком помог ему миновать порог. Блейз упал с двух ступенек, которые вели во двор, поднялся, пошел к сараю. Там хранился инструмент: топоры, молотки, серп, рубанки, наждачный круг, токарный станок и многие другие, названия которых он не знал. Автомобильные детали, коробки со старыми журналами. Лопата для уборки снега с широким алюминиевым совком. Его лопата. Блейз посмотрел на нее, и почему-то от одного ее вида его ненависть к Боуи достигла пика. Они получали сто шестьдесят долларов в месяц за то, что держали его в своем доме, и он выполнял за них всю тяжелую и грязную работу. Кормили его плохо. В Хеттон-Хаузе он ел куда лучше. Это было несправедливо.
Губерт Боуи открыл дверь сарая, вошел.
– Сейчас я тебя выпорю.
– Этот пес прыгнул на меня. Хотел вцепиться мне в горло.
– Больше ничего не говори. Тебе будет только хуже.
Каждую весну Боуи спаривал одну из своих коров с быком Франклина Марстеллара, Фредди. На стене сарая висел повод, который назывался «поводом любви», и кнут. Боуи снял кнут, крепко сжал ручку. Кожаные концы свешивались вниз.
– Наклонись над верстаком.
– Рэнди хотел вцепиться мне в горло. Говорю вам, или он, или я.
– Наклонись над верстаком.
Блейз замялся, но не потому, что задумался. Думал он слишком медленно. Вместо этого сверялся с интуицией.
Время еще не пришло.
Он наклонился над верстаком. Боуи порол его долго, бил со всей силы, но Блейз не заплакал. Слезам он дал волю позже, в своей комнате.
Девочка, в которую он влюбился, училась в седьмом классе школы Первого района Камберленда, и звали ее Марджори Турлау. Блондинка с голубыми глазами и плоской грудью. Когда она улыбалась, уголки ее глаз поднимались вверх. На игровой площадке Блейз всегда следил за ней взглядом. Когда он видел ее, у него в животе словно образовывалась пустота, но это было приятное чувство. Он представлял себе, как носит ее учебники и защищает от бандитов. От таких мыслей кровь всегда бросалась ему в лицо.
Вскоре после инцидента с Рэнди и поркой в школу приехала медсестра, чтобы сделать прививки. Неделей раньше все школьники получили разрешительные бланки. От родителей требовалось расписаться на них, если они хотели, чтобы детям сделали прививки. И теперь дети, родители которых дали добро, выстроились в очередь у двери раздевалки. Среди них был и Блейз. Боуи позвонил Джорджу Гендерсону, члену попечительского совета школы, и спросил, платные ли прививки. Выяснил, что бесплатные, и подписал бланк.
Марджи Турлау тоже стояла в очереди. Очень бледная. Блейз ее жалел. Ему хотелось встать рядом и держать за руку. От этой мысли его лицо стало пунцовым. Он наклонил голову, переминаясь с ноги на ногу.
Блейз стоял первым. Когда медсестра пригласила его в раздевалку, он снял красно-черную клетчатую куртку и расстегнул пуговицу на одном рукаве. Медсестра достала шприц из какого-то аппарата, напоминающего печь; заглянула в медицинскую карту.
– Лучше расстегни и второй рукав, большой мальчик. Тебе нужно сделать обе прививки.
– Будет больно? – спросил Блейз, расстегивая пуговицу второго рукава.
– Только секунду.
– Хорошо, – кивнул Блейз и позволил ей вогнать иглу из печи в левую руку.
– Ну, вот. Давай вторую руку, и можешь идти.
Блейз повернулся к медсестре вторым боком. Уже другой иглой она что-то ввела ему в правую руку. Он вышел из раздевалки, вернулся за свою парту и начал разбираться с рассказом в учебнике.
Когда из раздевалки появилась Марджи, глаза ее блестели от слез, еще больше их было на щеках, но она не рыдала. Блейз ею гордился. Когда она проходила мимо его парты, направляясь к двери (семиклассники занимались в другой комнате), он ей улыбнулся. А она – ему. Блейз сложил эту улыбку, спрятал и хранил много лет.
Во время дневного перерыва, когда Блейз выходил из двери на игровую площадку, мимо, рыдая, пробежала Марджи. Он повернулся, чтобы посмотреть ей вслед, потом медленным шагом двинулся на площадку, сдвинув брови, с печалью на лице. Подошел к Питеру Лавои, который с бейсбольной перчаткой на руке бросал и ловил привязанный к стойке мяч, и спросил, не знает ли Питер, что случилось с Марджи.
– Глен ударил ее в прививку, – ответил Питер Лавои и наглядно показал на проходящем мальчике, что произошло, сжав пальцы в кулак и трижды ударив того в руку: бух-бух-бух. Блейз, хмурясь, наблюдал за этим действом. Медсестра солгала. После прививок у него сильно болели обе руки. Казалось, мышцы в синяках да еще сведены судорогой. Даже сгибая руки, он морщился от боли. А Марджи была девочкой. Он огляделся в поисках Глена.
Глен Харди, здоровенный парень, учился в восьмом классе. Такие сначала играют в футбол, а потом становятся толстяками. Рыжие волосы он зачесывал назад, и они волнами уходили ото лба. Жил он на ферме у западной административной границы Камберленда, и его руки бугрились мышцами.
Кто-то бросил Блейзу мяч. Он выронил его и двинулся к Глену Харди.
– О! – воскликнул Питер. – Блейз хочет разобраться с Гленом!
Эта новость распространилась быстро. Мальчишки, группами и поодиночке, начали смещаться в ту часть площадки, где Глен и еще несколько парней постарше играли в некое подобие кикбола. Глен подавал. Бросал мяч резко и сильно, с отскоком от промерзшей земли.
Миссис Фостер, которая в этот день дежурила на игровой площадке, находилась с другой стороны здания. Следила за малышами на качелях. То есть не могла вмешаться в происходящее – во всяком случае, на начальном этапе.
Глен поднял голову и увидел приближающегося Блейза. Отбросил мяч, упер руки в бока. Обе команды выстроились полукругом у него за спиной. Все семи- и восьмиклассники. Ни один не мог габаритами сравниться с Блейзом. Только Глен был больше.
Ученики четвертых, пятых и шестых классов группировались за спиной Блейза. Мельтешили, поправляли ремни, натягивали рукавицы, что-то шептали друг другу. С обеих сторон мальчишки усиленно делали вид, что ничего особенного не происходит. И действительно, вызова на драку еще не было.
– Чего тебе нужно, тупоголовый? – спросил Глен Харди. Его голос звучал бесстрастно. Голос молодого бога с легкой простудой.
– Зачем ты ударил Марджи Турлау в прививку? – спросил Блейз.
– Захотелось.
– Хорошо. – И Блейз двинулся на него.
Глен дважды ударил его в лицо (вап, вап), прежде чем Блейз успел сблизиться с ним, и из носа Блейза потекла кровь. Глен отступил, стремясь сохранить дистанцию. Школьники подняли крик.
Глен ухмылялся.
– Приютский ублюдок, – поцедил он. – Безмозглый приютский ублюдок. – Он ударил Блейза в продавленный вмятиной лоб, и улыбка тут же сменилась гримасой боли. Лоб у Блейза, несмотря на вмятину, был очень твердым.
На мгновение он забыл отступить на шаг, и Блейз нанес ответный удар. Не пошел вперед всем телом, двинул только руку, как поршень. Костяшки пальцев вошли в контакт со ртом. Глен вскрикнул, его собственные зубы порвали внутреннюю сторону губ, потекла кровь. Крики школьников усилились.
Глен почувствовал вкус собственной крови и забыл о том, что нужно держать дистанцию. Забыл о желании высмеять этого уродливого парня с вмятиной во лбу. Просто попер на него, нанося удары обеими руками.
Блейз встретил его, не сдвинувшись с места. Он слышал доносящиеся откуда-то издалека крики и восклицания других школьников. Они напоминали ему лай колли в вольере в тот день, когда он понял, что Рэнди собирается идти до конца.
Глен как минимум трижды хорошо приложился к голове Блейза. У того перехватило дыхание, воздух он вдохнул с кровью. В ушах зазвенело. Вновь ударил сам и почувствовал, как боль пронзила руку до самого плеча. И сразу же кровь изо рта Глена выплеснулась на щеки и подбородок. Глен выплюнул выбитый зуб. Блейз ударил снова, в то же место. Глен завопил. Как маленький ребенок, которому дверью защемило пальцы. Перестал махать руками. Его рот являл собой горестное зрелище. К ним уже бежала миссис Фостер. Юбка развевалась, она спешила как могла и дула в маленький серебряный свисток.
Правая рука Блейза очень сильно болела там, куда сестра сделала прививку, и кулак болел, и голова, но он ударил опять, со всей силы, онемевшей, потерявшей всякую чувствительность рукой. Той самой рукой, что остановила Рэнди, и бил он так же крепко, как и в тот день в вольере. Удар пришелся Глену точно в подбородок. Послышался отчетливый хруст, заставивший всех школьников смолкнуть. Глен покачнулся, глаза его закатились. Потом подогнулись колени, он рухнул на снег и застыл.
«Я его убил, – подумал Блейз. – Боже, я его убил, как Рэнди».
Но Глен зашевелился и начал бормотать что-то невнятное, как бормочут люди во сне. И миссис Фостер уже кричала на Блейза, требуя, чтобы тот ушел в школу. Уходя, он слышал, как она просит Питера Лавои сбегать в учительскую и принести аптечку.
Его отправили домой. Временно отстранили от занятий в школе. Носовое кровотечение остановили пузырем со льдом. Кровоточащее ухо заклеили пластырем и отправили домой на своих двоих: собачью ферму отделяли от школы четыре мили. Он уже двинулся в путь, когда вспомнил про пакет с ленчем. Миссис Боуи каждый день давала ему два ломтя хлеба с арахисовым маслом и яблоко. Не так чтобы много, но прогулка предстояла долгая, и, как говаривал Джон Челцман, что-то лучше чем ничего в любой день недели.