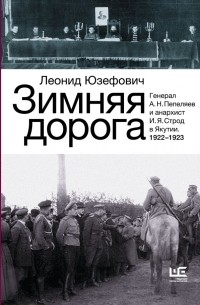Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Дух упований
В Харбине, до приезда мужа, Нина Ивановна с сыном мыкалась по чужим углам; Пепеляеву сразу пришлось искать какой-то заработок. Для человека его ранга это было делом не вполне обычным: на востоке России военная власть легко конвертировалась в валюту. Семенов имел счета в японских банках и заблаговременно перевел на них крупные суммы; об одном колчаковском генерале поговаривали, будто он на подставных лиц купил доходный дом в Харбине, о другом – что в порту Тяньцзина стоит принадлежащая ему паровая яхта, о третьем – что в ряде солидных фирм есть доля его капитала. Иногда такие обвинения сочинялись в редакциях просоветских газет, чтобы дискредитировать влиятельных в эмиграции людей, но о Пепеляеве подобных слухов никто не распускал – им бы просто не поверили.
“Сбережений”, как эвфемистически называли вывезенные из России казенные деньги, он не имел и первое время разгружал дрова на пристани. “Любит физический труд”, – отзывался Пепеляев об одном офицере, что в его устах было наивысшей похвалой, но любовь к такому труду как форме отдыха – одно, а необходимость содержать им семью – совсем другое. Осенью он подыскал место чертежника, потом купил в рассрочку двух лошадей и на пару с бывшим ординарцем, прапорщиком Емельяном Аняновым, начал зарабатывать ломовым извозом.
Работа была тяжелая, часто грязная, но давала средства для скромной жизни. По заказам напарники ездили через день, в очередь. К ним присоединилась группа офицеров, возникла извозчичья артель, а для солдат Пепеляев организовал артели грузчиков и плотников. С той же целью он создал “Воинский союз”, прообраз будущего РОВСа, но от должности председателя отказался, уступив ее другу, генералу Евгению Вишневскому.
В апреле 1922 года Нина Ивановна родила второго сына, Лавра. Жили не в центре Харбина, а в лежавшем за городской чертой поселке Модягоу, где квартиры были дешевле. Эмигрантских собраний Пепеляев не посещал, ни в каких политических обществах не состоял. Свободное время проводил с семьей, рыбачил, читал; чтение он называл среди занятий, которым хотел бы отдаться в мирной жизни. Познакомившийся с ним впоследствии краском Степан Вострецов говорил, что особенно хорошо Пепеляев знал “Жизнь Иисуса” Эрнеста Ренана. О других его любимых авторах ничего не известно. Ни одной литературной цитаты в его дневнике нет, кроме примененной к себе и товарищам по Якутскому походу фразы Горького о “безумстве храбрых”.
Зато, начав вести дневник, он в первой же записи зафиксировал свои убеждения: “Я не партийный. Даже не знаю, правый или левый. Я хочу добра и счастья народу, хочу, чтобы русский народ был добрый, мирный, но сильный и могучий народ. Я верю в Бога. Верю в призвание России. Верю в святыни русские, в святых и угодников. Мне нравится величие русских царей и мощь России. Я ненавижу рутину, бюрократизм, крепостничество, помещиков и людей, примазавшихся к революции, либералов. Ненавижу штабы, генштабы, ревкомы. Не люблю веселье, легкомысленность, соединение служения делу с угодничеством лицам и с личными стремлениями. Не люблю буржуев. Какого политустройства хочу? Не знаю… Республика мне нравится, но не выношу господство буржуазии”.
И дальше: “Меня гнетут неправда, ложь, неравенство. Хочется встать на защиту слабых, угнетенных”.
Наконец последнее, что он счел необходимым написать о себе на первой странице дневника: “Противны месть, жестокость”.
В середине 1990-х издатель и мемуарист Семен Самуилович Виленский, сидевший в лагере на Колыме вместе со старшим сыном Пепеляева, дал мне его адрес. Всеволод Анатольевич жил тогда в Черкесске. Мы с ним начали переписываться, и в одном из писем он прислал мне ветхий тетрадный листок с карандашным рисунком отца: поскотина из жердей за деревенской околицей, елки, месяц в ночном небе, глазастый зайчик с умильно воздетой передней лапкой. Вверху по-детски коряво выведено: “От папы. Вова (домашнее имя Всеволода, старшего сына. – Л.Ю.). 22 марта 1921 года”.
На обороте – четверостишие, написанное взрослой рукой, но не рукой Пепеляева:
Дату поставил Севочка, рисовал его отец (во время болезни, раз ходил с термометром), а стишок, должно быть, сама или вместе с сыном сочинила Нина Ивановна. Тогдашнее настроение мужа передано ею не без иронии, но со знанием дела: смешное слово “дума” применительно к Пепеляеву употребляла не она одна. Люди, знавшие его по Харбину, вспоминали “грузного, небрежно одетого человека в потасканных шароварах защитного цвета, в толстовке, в серой, надетой по-военному, немного набок, шляпе”. По улицам он ходил “медленной развалистой походкой, и на лице у него словно бы застыла тяжелая, мучительная, неразрешимая дума”.
“Душой я отошел от Белого движения, – писал Пепеляев об этом периоде своей жизни, – порвал с ним всякую связь, мучительно искал ответов на вопросы: в чем спасение Родины? Как примирить вражду русских? Что сделать, чтобы улеглись волны революционного моря?”
Популярного генерала стремились привлечь на свою сторону и белые, и красные. Друживший с ним колчаковский журналист Николай Устрялов объяснял это просто: “Все нуждались хоть в одном честном имени”.
Из Благовещенска приезжал старый товарищ, полковник Буров, ныне командир краснопартизанского отряда, от имени правительства ДВР предлагал командную должность в Народно-Революционной армии. Пепеляев готов был сражаться с японцами и “японской болванкой” Семеновым, но Япония эвакуировала войска из Читы и Хабаровска, а воевать против бывших соратников не позволяли, по его словам, “моральные соображения”.
Генерал Вержбицкий зазывал в Приморье, обещал крупный пост в Белоповстанческой армии. Пепеляев ответил: “Пока народ не возьмет знамя борьбы в свои руки, действия отдельных армий успеха иметь не будут… Тяжело сидеть в бездействии, но звать людей на дело, в успех которого не верю, я не могу”.
В то время, когда он рисовал сыну зайчика, Западную Сибирь охватили крестьянские восстания. Недавно сибирские мужики боролись против Колчака, а теперь не признали и большевиков, из чего Пепеляев делал вывод, что ни белые, ни красные не способны постичь народный идеал жизнеустройства, поэтому его долг – “влиться в народ, понять его нужды, его чаяния и служить народу”. Как он однажды выразился, им овладел “дух упований” – надежда, что из этих стихийных мятежей родится новый порядок русской жизни.
“Настроения мои, – вспоминал Пепеляев, – были такими: я хочу мира, счастья Родине, хочу, чтобы люди стали братьями, но в Сибири борьба не прекращается – восстания в Ишиме, в Петропавловске. Приезжие говорили, что в Сибири голод, жестокость карательных отрядов, крестьяне разбегаются из деревень в леса. Власть только грабит и не может устроить нормальной жизни… Создавалась картина полной гибели Родины и народа”.
И переходил к самому себе: “Считал неверным пользоваться личным благополучием, когда гибнет родная Сибирь, а может быть, и Россия”.
Устрялов подтверждает: “Он все упорнее твердил, что если начнется народное движение против советской власти, не сочтет себя вправе стоять в стороне. «Друзья» же старались заставить его всякую ничтожную крестьянскую вспышку в Сибири принимать за начало широкого движения”.
Под “друзьями” (кавычки выдают отношение к ним Устрялова) понимались областники из “Сибирского комитета”, руководимого старым народником Анатолием Сазоновым. Пепеляев сблизился с ними в Харбине. Самыми заметными членами этого кружка были журналист Валериан Моравский, эсер и партизан (белый, красный, опять белый) Николай Калашников и японист Мстислав Головачёв, в силу профессии ставший главой МИДа в полностью зависимом от японцев Приамурском правительстве братьев Меркуловых.
В 1917 году Сазонов и Моравский заседали в Сибирской думе, где Якутию представлял Куликовский, и теперь, явившись во Владивосток просить о военной помощи повстанцам, он обратился за содействием к старым знакомым. Тщеславный несмотря на возраст Сазонов решил, что судьба посылает ему шанс осуществить лелеемый им проект создания “буферной”, вроде ДВР, но не просоветской, а прояпонской Сибирской республики с Якутией как временной опорой ее государственности и самим собой в роли не то премьер-министра, не то идеократического диктатора. Через Головачева он составил Куликовскому протекцию у Меркуловых и организовал его встречу с Пепеляевым, которого соответствующим образом настроил.
Встреча состоялась во Владивостоке. Куликовский сумел найти ключ к сердцу “мужицкого генерала”, рассказав ему о страданиях якутов и напирая на то обстоятельство, что ВЯОНУ – орган демократический, представляющий большинство населения.
“Власть эта – народная, опирающаяся на весь народ, и вот народ зовет всех сочувствующих народу помочь ему спастись от уничтожения. Это меня увлекло”, – передавал Пепеляев свои впечатления от рассказа Куликовского. Он не замечал, что от слова “народ” здесь рябит в глазах.
Сазонов, хотя ему перевалило за шестьдесят, объявил, что лично возглавит Якутскую экспедицию. В конце концов, он снизошел к просьбам соратников, милостиво согласившись поберечь себя для будущих свершений и остаться дома, но приставил к Пепеляеву двух своих комиссаров: теоретик кооперации Афанасий Соболев, о котором Устрялов отзывался как о “необыкновенно бестолковом и самодовольном доморощенном экономисте”, стал начальником информационно-политического отдела Сибирской дружины, а “трудовик” Герасим Грачев – его единственным сотрудником.
15 июля 1922 года Пепеляеву исполнился тридцать один год. Незадолго до того он вернулся в Харбин после встречи с Куликовским, и в день рождения на квартире у него собрались близкие товарищи. Среди них – сын врача из Барнаула, юрист с дипломом Санкт-Петербургского университета, поручик Леонид Малышев, при Колчаке возглавлявший иркутскую милицию. Он лишь недавно перебрался в Харбин из Хайлара, где преподавал в русской школе при КВЖД. Через кого-то из сибиряков Малышев познакомился с Пепеляевым и настолько ему понравился, что стал его конфидентом, а чуть позже – адъютантом.
Год спустя, на допросе в ГПУ, он показал: однажды вечером, за день или за два до своих именин, к нему на квартиру зашел Пепеляев и сказал, что решил принять предложение Куликовского помочь якутам, которые находятся “в кошмарном положении”. Он не скрыл от друга “тяжелые моменты” предстоящей экспедиции и свои по этому поводу “переживания”, но Малышев сразу, без малейших колебаний, вызвался отправиться с ним.
С той же целью Пепеляев нанес визиты еще кое-кому из бывших подчиненных (он предпочитал слово “сослуживцы”), а более широкий круг был посвящен в его замысел на именинах. За столом, “после чая”, рассказывал Малышев, именинник объявил, что намерен собрать отряд в помощь Якутскому восстанию, скоро начнется запись добровольцев. Это стало сенсацией для всех, кроме самого Малышева, еще троих-четверых посвященных и хозяйки дома. Очевидно, к тому времени ее сопротивление было сломлено. Не присутствовать на дне рождения мужа она не могла, и если он сообщил о своем решении при ней, значит, Нина Ивановна была в курсе его намерений и с ними смирилась. Можно лишь догадываться, во что обошлось это им обоим.
Малышев не говорил, как были восприняты слова хозяина дома, но судя по тому, что и он, и остальные гости скоро окажутся в Якутии, новость встретили с воодушевлением. Однако сам Пепеляев настроен был не слишком оптимистично. Устрялов, видевший его незадолго до отъезда, не почувствовал в нем “горячей веры в успех”; и все же он не отказал Куликовскому, как отказывал Бурову и Вержбицкому – при том, что ницшеанской страсти к войне не питал, в дневнике писал о ней как о “сплошном кошмарном ужасе” и признавался: “По совести скажу, не военный я человек, хотя всю жизнь в военной службе”.
Его убедили во всенародном характере Якутского восстания, и он уже не мог не сделать того, о чем постоянно “твердил” и что считал своим долгом. К этой ситуации подходила формула из его любимой “Жизни Иисуса” Ренана: “Неужели дать погибнуть делу Божию только потому, что Бог медлит проявить свою волю?” По Устрялову, решение Пепеляева стало следствием присущей ему “чарующей цельности”, но прав и Строд, менее возвышенно объяснявший, почему он ввязался в эту авантюру: “Якутское восстание для Пепеляева – фиговый листок, под которым скрывалось желание еще раз померяться силой с Советами”.
Впервые за два с лишним года перед ним открылась перспектива действовать абсолютно самостоятельно: подчинение Дитерихсу было формальным и, как негласно подразумевалось, временным. Сибирская дружина не равнялась по штатной численности даже полку, но поскольку ей предстояло стать костяком будущей армии, Пепеляев возглавил ее в ранге не командира, а командующего. Само это слово обещало больше, чем вслух говорилось о целях экспедиции.
Он, конечно, мечтал о реванше, но наверняка думал и о том, как воспримут его затею Дитерихс, Вержбицкий, Молчанов, другие бывшие генералы Восточного фронта. В случае успеха эти люди должны были признать его мужество и забыть, что в декабре 1919 года он отказался от борьбы, когда они еще продолжали сражаться; при неудаче все то же самое досталось бы ему ценой жизни.
Разумеется, Пепеляев надеялся остаться в живых, да и мрачные мысли сменялись у него периодами эйфории, но для самооправдания, как и для его репутации, не было большой разницы между победой и смертью. Он старался не давать воли таким мыслям, но позднее, в Якутии, без рисовки напишет в дневнике о преследующем его болезненном чувстве, которое охарактеризует столь же неуклюже, как и точно: “Чувство желания пострадать”. Наверняка оно бывало у него и раньше.
Все эти очень понятные и очень мужские желания и чувства обострялись мучительным для человека с его прошлым сознанием бесцельности существования, но, может быть, ему было бы не так “тяжело сидеть в бездействии”, если бы отношения с женой сложились по-другому.