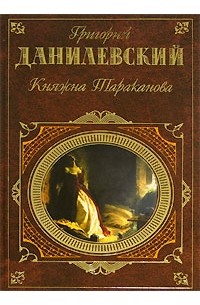Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
XI. Отдача долга
Шутовкин передал учителю поручение полковника, и бедняк Михайлов, прогоревший на неудачной афере со льном дотла, взял у хозяина все свое заслуженное жалованье, занял еще часть у соседа под часы, сосчитал сумму и поехал, вздыхая, к отцу Павладию расплатиться с весенним долгом. «Проклятые чумаки! подвезли столько льну, что совсем разорили! – думал студент, – не удались мечты!»
Святодухов Кут много изменился с тех пор, как в чудную майскую ночь молодой аферист летел сюда с радужными надеждами на барыши и в то же время добровольным соглядатаем тайн тихого и уединенного уголка.
Теперь он с тоскою вступал в осиротевший, печальный двор отца Павладия. Совесть грызла его невольно, не сознавая тогда могущих быть последствий, и он был замешан в грустной драме, смявшей счастье этого смиренного приюта.
Двор студенту показался как-то особенно пространным, а церковь совершенно низенькою, и маковка ее уже будто не так сверкала золотом, как в ту улетевшую чудную, привольную и незабвенную ночь. Роща стояла безлистая, обнаженная. Сквозь ее редкие вершины уныло синел пруд. Ветер посвистывал, обрывая с веток последние листы. Дом священника был стар; побелка на нем потемнела от дождей, а местами с его стен осыпалась глина.
Подъехав на этот раз в тележке хозяина, Михайлов пошел в ворота и у плетня под сараем увидел священника. Отец Павладий с топором копался над колесом, остановился и сразу не узнал гостя.
– Здравствуйте!
– Здравствуйте… Кто вы?
Священник наставил к глазам ладонь.
– Вы меня не узнали?
– Извините, не узнал…
– Михайлов.
– А! теперь узнал… Что вам нужно? Деньги, что ли, привезли?
– Что это? вы сами с топором работаете?
– Да! нечего делать; надо же чем-нибудь жить нам, горемыкам. Сам теперь вот я и лошадей пою, и свиней кормлю, и дрова рублю, и все починяю! Что делать! Такова уж наша участь!.. Была прежде и работница, да ваш же Дон Жуан украл, свел ее со двора…
Михайлов молчал. Кровь хлынула ему в голову.
– Я в этом не виноват! – сказал он, растерявшись.
– Что же вам угодно, однако? – сухо спросил священник.
– Я вам деньги привез; благодарю за ссуду…
– Пожалуйте в комнату; я сейчас туда приду за вами. Извините, теперь у меня прислуги нет, молодой человек. Так-то-с; не прогневайтесь… Уж чаю некому подать-с!
Михайлов пошел, думая: «Да, поделом мне! Дело скверное, а началось оно и сделалось почти через меня!»
Он печально вошел в комнаты. Там было все по-прежнему. Тот же запах воска и ладана, та же чистота, те же свежие скатерти, пучки трав у образов, журналы и газеты кипами по столу и по стульям. Он взглянул: многие были не разрезаны, а другие даже в пакетах нераспечатанные. Вошел отец Павладий.
Сняв шляпу, он остановился у порога. Тот же подрясник, тот же гарусный старенький пояс на нем; та же красноватая мясистая лысина и утлая косичка, перевязанная полинялою ленточкой. Но маленькие, красные, вспухшие глазки были будто еще меньше и печальнее, борода заметно побелела, и лицо осунулось. Он размахивал серою пуховою шляпой, собирался все что-то сказать резкое и суровое и не говорил.
– Ну-с, молодой человек, ну-с, так-то-с; да, спасибо вам, одолжили! Очень, очень вам благодарен! Просто разодолжили, – профессоров ваших надо благодарить…
Студент сидел, не поднимая глаз.
– О чем вы это говорите, отец Павладий? Разве я…
– Я говорю о вашем друге, о господине Панчуковском. Спасибо вам и ему за внимание. Берега нашей Мертвой ознаменовались таким романом, который бы прямо на бумагу, да и в журналы! И чего вы медлите его опубликовать?
– Да вы ошибаетесь, отец Павладий, вы смешиваете меня с полковником… Что же общего у меня с ним?
Студенту было совестно; он понимал, что кривит душою, он тогда угадывал затеи полковника.
– Что нам, современным людям, – продолжал священник, не отходя от порога, продолжая нелепо размахивать шляпою и не слушая Михайлова, – что нам бедные люди, всякие голыши сельские!.. Ограбить их, осмеять, отнять у них последние утешения и радости! Вот что. Да-с. Мало вам, господа, гребчих да городских продажных красавиц! Вы на наши тихие захолустья взъелись! И тут вас недоставало! Подло-с, да, подло! Извините.
– Да послушайте, что вы! Разве это ко мне относится?
Священник с досадою бросил шляпу на кушетку и сел на стул. Потом он опять вскочил и схватил со стола какую-то книжку.
– Ну, читайте, читайте! Что тут пишут, а? Порочат зло, проклинают ложь, насилия и неправду! А вы что сделали? Куда же ваши повести после этого годятся, ваши комедии и драмы, когда вы, ученый человек, с вором съякшались, – с вором, который по ночам гарцует, в чужие дома врывается и все безнаказанно творит, благо для этого есть у него деньги, связи и положение в свете? Я же везде искал и везде получил отказы на него! Для меня в этом деле все погибло, все! Он смело и явно купил все свое дело, все свои новые утехи…
Священник замолчал. Грудь его тяжело дышала, руки тряслись, лицо побагровело.
– Позвольте вас спросить, наконец, господин Михайлов, отвечайте мне: для чего вы захотели спекулировать? Вам деньги были нужны?
– Да-с, я вам тогда говорил зачем, – ответил студент, теряясь более и более.
– Но вы обеспечены чем-нибудь? Уроки имеете? Зачем же и вы захотели еще более доходов? Отвечайте! Потребность времени, роскошь? Зачем вам были нужны эти новые барыши, за которыми вы погнались, заняв у меня деньги?
– У меня мать старуха в Одессе, дочь убитого поручика и жена бездомного капитана, моего покойного отца. Ей есть нечего на старости.
– А! У вас нищая мать! Вы для нее! Так зачем же вы не медленным трудом захотели улучшить свое и ее положение, а кинулись на быстрые барыши? То-то и дело! Где нечестные скорые доходы, там и товарищи-подлецы под руку попадаются. Так-то-с… Уж вы извините меня. Пожалуйте деньги-с… Я свое сказал. Хоть вы и не совсем виноваты, а хвост, батюшка, замарали… Не говорите: вы знали его умыслы…
Священник судорожно сосчитал поданные деньги, сходил в спальню, вынес оттуда расписку студента и резко подал ему.
– Слушайте, господин Михайлов! Вы еще молоды; много надежд у вас впереди; а я уже мертвый человек: одною ногой стою в темной могиле и другую тоже заношу туда. Кончайте получше курс ваших наук, да не кидайтесь на болезнь нашей Новороссии, на ее торговую горячку. Немало огромных средств и дарований она унесла к погибели; артистов сделала взяточниками, публицистов-с некоторых – ворами; оскотинит она, погубит и вас. Осмотритесь, приглядитесь к жизни: жизнь не терпит скачков! Вот хоть бы у меня мой садик и роща. Они теперь хороши. А ведь я тридцать лет сидел и тридцать лет трудился над ними! Читайте, учитесь, работайте… Извините меня, старика. Вы что более всего любите? Ну, скажите мне, что?
– Естественную историю, музыку-с… Особенно музыку…
– Ну, из естественных наук займитесь хоть ботаникой, степные травы собирайте, сушите; ведь имя составить себе можете одним здешним травником. Да Гумбольдта-с, Гумбольдта читайте, а не на манер бердичевских факторов маклакуйте! Или хоть нашими украинскими песнями займитесь. Эх, что за прелесть эти песни! Когда я был еще в Чернигове в бурсе, я много ими занимался и пел их пропасть со скуки, гуляя в семинарском саду да зубря мертвящие латинские вокабулы. Жена же моя, покойница, их отменно пела… Так-то-с! Украинские народные песни создадут еще со временем своих Моцартов-с…
Михайлов просидел у священника до вечера. Много переговорил он с ним, а еще более переслушал. «Эка дельный человек! – думал он о нем, – и в какую глушь закинут!»
Простился он с отцом Павладием, растроганный до глубины души. Он клялся заняться науками, бросить аферы.
– Прощайте, господин Михайлов. Желаю вам счастливого пути в вашу Одессу, да не возвращайтесь более сюда!
– Как можно! Я еще хочу взглянуть на ваш очаровательный Святодухов Кут, на ваши ключевые воды, на ваш сад и пруд!
– Пропадать им, видно, как и всему тут! Вы, я чай, слышали, какая участь постигла моего бедного помощника, дьячка Фендрихова?
– Нет, не слыхал… Что такое? Боже! вы меня пугаете. Я его помню, видел его у Щелковой…
– Он после Покрова, нынешнюю осень, ослеп…
– Ах, бедняк! Где же он теперь? Вот бедняк, право!
– Да тут еще у меня на кухне живет; изредка в церковь на клирос ходит, только совсем ослеп, как есть. Должно быть, ветром на него каким пахнуло или роса такая пала. В две недели и ослеп… Или, скорее, просто такая уж, верно, ему судьба была на роду написана.
– Так вы теперь одни?
– Нет, его жена мне помогает, но у нее свое дитя есть; а я выписал, жду вот племянника к себе в причт; этого паренька, видите ли, выгнали из нашей семинарии тоже за разные разности; ну, я его к себе и сманиваю. Не скучно хоть будет… Парень даровитый, вот как и вы, науку прошел; только боюсь, не испортился бы тут…
Михайлов стал сходить с крыльца.
– А про мою воспитанницу что-нибудь слышали? – спросил с усмешкой священник. – Ведь вы когда-то ее у меня, помните, видели, и она вас тоже тогда, кажется, заняла?
– Нет, не слышал. А вы не знаете, что с нею теперь?
– Как же, как же, теперь уж я все знаю: у Панчуковского она поселилась окончательно; да то диво, что, говорят, ему отдалась совершенно и даже… стыжусь вам сказать… таково уж наше время… и помяните мое слово, Панчуковский поплатится, и поплатится сильно… А она?!
– Что же? Говорите!
– Говорят… уж и беременна от него… не прячется и открыто стала с ним ездить. В мой угол тридцать лет никакая людская напасть не проникала; я как в гнезде ласточки жил. А теперь что случилось!..
Михайлов пожал плечами, вздохнул, простился со священником и уехал. Шутовкина он не застал дома. Хозяин его был где-то по коммерческому делу. Было поздно вечером.
Ученики Михайлова уже спали. Он сел к роялю, склонил к его клавишам грустное лицо и свои белокурые пышные кудри, стал было играть и невольно заплакал… Потом он снова начал играть и играл с увлечением до утренней зари.
«Я буду артистом!» – подумал он, забываясь радужными грезами.
Солнце взошло.
У рояля, на кушетке, навзничь лежал и крепко спал Михайлов. Что ему снилось? Музыка, естественная история или новые соблазны спекуляциями?
Бог весть…
В доме у соседей Панчуковского, братьев Небольцевых, на Екатеринин день, день именин их старушки матери, был праздник и большой съезд гостей. В числе других, разнообразных и разноплеменных лиц околотка, был здесь и полковник.
В осеннем темно-зеленом пальто, с орденской ленточкой в петлице, по-прежнему раздушенный и распомаженный, Панчуковский, однако, был, по-видимому, как будто не в духе. Столпившись в курительном кабинете, вдали от девиц и дам, гости-мужчины по-былому толковали о минувшем лете, о близости закрытия приморских портов, о ценах хлеба, каменного угля, о видах на весенние продажи сельских сборов и о местных скандалах всякого рода. Сидя на мягком диванчике и сверкая перстнями, запонками и щегольскими розовыми ногтями, Панчуковский, по обычаю, вскоре оживился и завладел общим разговором.
– Так вы думаете, что мы можем ожидать, с близкою реформой крестьянского быта, переселения народов к нам с севера, скорой колонизации здешних земель? Шалишь! Нет, господа, этого не будет! Будь я подлец, если не так!
– Отчего же? Вы все намеками говорите, полковник…
– Отчего? вот забавно!
– Да-с, непонятно что-то…
– Оттого, что в наш век странствия новых гуннов и аланов невозможны. Да-с, новые Атиллы у нас – это английские-с паровые машины, ливерпульские да клейтоновские локомобили, молотилки-с и всякие черти! Вот нашествия чего мы должны ожидать и от чего должны откупаться, как старинные города и села откупались от диких варваров! Труд поселян, дешевенький крепостной труд, – он только нам и давал доход, повторяю, при крепостном состоянии; а теперь все вздорожает, и земледелию отныне шабаш!
– Позвольте, позвольте: почему вы так думаете, что к нам не двинутся переселенцы из великорусских губерний? – спросил Митя Небольцев, старший из братьев-хозяев.
Панчуковский громко и резко захохотал:
– Ах вы, простота-простота, душечка! Ну, бросит ли наш туляк, владимирец или пскович свою дымную лачужку, бедную ниву и родичей, чтобы явиться к нам в гости? Да он скорее пойдет в Москву на фабрики или на барки на Волгу на заработки, чем решится к нам переселиться. Через сто лет, так, не спорю; а теперь оставьте, господа, надежды. Не верьте вы нашим чухонским Штейнам и новоиспекаемым Кавурам с Невского проспекта! Ведь в Питере куда ветер подует, туда и все песни летят! Был у меня там один приятель – чиновник; верите ли, если бы вот ваш, Адам Адамыч, пудель ему сказал, что в моде, положим, голубые шляпы, он бы в департамент тотчас голубую шляпу надел…
Слушатели рассмеялись.
– Как, как, Владимир Алексеич? Пудель? Голубые шляпы?..
– Право! На этого же самого чиновника на даче воры как-то напали; что бы вы думали? Он залез под кровать и стал оттуда впотьмах лаять собакою. Это собачье искусство только его и спасло, дачу ограбили, а его оставили в живых.
Лакей внес водку перед завтраком. Хозяева суетились. Слушатели в восхищении от острот Панчуковского похаживали, шушукались. А он ораторствовал не переставая.
– Что мне, господа! Я не от личных огорчений говорю. Я счастлив, богат, свободен как ветер, хоть и эгоист, господа, и считаю в душе это чувство лучшею рекомендацией человека.
– Не всегда, полковник! – возразил опять Митя Небольцев, желавший хоть чем-нибудь оспаривать бойкого местного краснобая и идола, – и у вас бывают невзгоды! вы вот перебили у Шульцвейна степь, а саранча на ней все травы съела!
– Зато у меня с прошлогодней пшеницы и со льна теперь одним золотом семьдесят тысяч целковых в кассе лежит, не считая депозиток…
Полковник повел глазами. Перед его носом в это время стоял его новый камердинер, Аксентий Шкатулкин, и вежливо ждал минуты ему что-то сказать.
– Прикажете лошадей отпречь? – спросил он тихо барина, когда тот замолчал.
– Нет, я сейчас после пирога уеду! – ответил громко полковник и прибавил шепотом, – не лезь, когда тебя не спрашивают. Жди, после пирога велю запрягать…
– Куда вы, куда? – заговорили хозяева и гости разом.
– Надо домой; есть дела!
– Останьтесь, ради бога, останьтесь. В кои-то веки вас дождешься!..
Полковника упросили, и он остался. Он продолжал:
– Следовательно, я состою в кругу недовольных по убеждениям, а не из личностей. Я за себя молчу. А прислушайтесь вы к толкам в степях, на проселках и широких столбовых дорогах, в шинках и на возах с снопами, у переправ мостов и по взморью. О чем толкует народ здесь и везде?
Слушатели тревожно молчали, утопая в табачном дыму. Полковник встал и дико оглянулся по комнате, закидывая за уши волоса.
– Народ готовит нам штуки-с, господа! Да, да, да! Зовите меня алармистом, иллюминатом… Я народ наш знаю, я вращался и вращаюсь в нем! Он готовит нам такие штуки-с, что нам не расхлебать!.. Один косарь косил у меня этим летом. Я любил с ним говорить. Раз он меня на днях спрашивает: «Видно вы, барин, проглотили черта с хвостом, что так разумны; скажите мне, правда ли, что нам волю хотят дать?» Я говорю: «Правда, мой миленький; только имейте, говорю, терпение, ждите». – «Да, оно так, – отвечает он мне, – только пошли у нас слухи по ярмаркам, по церквам, по шинкам, по дорогам тут и по распутиям, что не одну волю нам дадут, а также и всю землю вашу навеки». Вот и подите-с!.. затевают кашу… А я народ знаю, и меня народ любит; я популярнее всех вас, а что они со мною было сделали! а?
Панчуковский замолчал. В кабинете кто-то вздыхал, точно будто кто плакал. Он оглянулся: помещица Щелкова, от простуды бывшая с завязанною шеей, тихо подошла из залы и держала платок у глаз. Она закашлялась и ухватила полковника за полу.
– Месье Панчуковский, скажите, бога ради, скажите, наконец, чего нам еще ждать, чтобы я могла, имела силы вовремя все сделать, приготовиться? Я женщина глупая, слабая, все меня пугает, все…
– Во имя отца и сына и святого духа, аминь! – раздался голос из залы.
– Господа, молебен! – объявили братья-хозяева, – наше духовенство опоздало немножко! Да расстояния виноваты; наш приход в Андросовке, за тридцать верст… Пожалуйте. Обычаи дедовские мы соблюдаем.
– А мы с вами, Авдотья Петровна, после потолкуем! – сказал Панчуковский. – Видите, молиться зовут; а ведь я ретроград и плантатор, как меня здесь обзывают: нельзя, система требует.
Гости вышли в залу. Тут уже блеском сияла толпа раздушенных дам и барышень. Легкие и воздушные очаровательные платья их напоминали близость приморских городов и возможность самых тесных сношений с чужими краями. Свежие итальянские шляпки, турецкие шали, лионские шелк и бархат; марсельские и греческие духи били в нос каждому. Черные брови, смуглые личики, легкие станы, живые движения… «Вот она, наша-то Новороссия! – шептал за молебном Панчуковский, подталкивая Митю Небольцева, – отрадно отдохнуть от работ и наживы, глядя на наших красавиц!» Щегольской камердинер полковника в зеленом ливрейном фраке, с бронзовыми пуговицами и при цепочке, также был тут, выйдя из лакейской, стоя у дверей и молясь богу. Молодой красивый священник, из херсонских греков, читал в нос и гнусил нараспев, так и пронизывая всех зоркими глазами из-под черных широких и густых бровей. На нем была ярко-лазоревая ряса в каких-то серебряных звездах и блестках; на груди наперсный крест, а пояс и нарукавники вышиты гарусом и стеклярусом.
Студент Михайлов, стоя тут же с своими птенцами, невольно вспомнил отца Павладия и его уединенную, бедную и старенькую обстановку. Впереди всех стояла, вся в белом, именинница, семидесятилетняя мать хозяев, первая переселенка из помещиц сюда, на Мертвую.
После молебна стали закусывать. Гости опять столпились в кабинете, как ни старались Митя, а потом и Сеня Небольцев обратить их в гостиную к дамам. Полковник, куря сигару, постарался опять начать разглагольствовать, стоя перед Щелковой.
– Вы толкуете, Авдотья Петровна, что с Дону, из казаков, если и их коснется реформа, к нам двинутся руки. Пустое-с! Извините. Знаю я этот почтенный и воинственный народ…
– Что, что? – подхватил Митя Небольцев, – я казаков люблю, народ лихой; там я был влюблен, господа, недавно, и не позволю их бранить – извините…
– Отсталые люди, несовременная татарщина, господа, эти ваши казаки! Что за военные арматуры в наш мирный век у каждого из них, вместо гражданских наклонностей! Что за учителя при саблях и что за чиновники при шпорах! А встретитесь вы с ними на пароходах, которые уже врываются в их Дон, или в домах где-нибудь, куда уже являются наши и заграничные журналы: сидят, молчат и хлопают глазами либо пьют… За пуншем да за картами только их и услышишь! Да что и слышать: дичь, беседы Тамерланов!
– Э, камрад! повторяю, – не нападайте так на моих лихих казаков! – перебил опять Митя Небольцев, – поссоримся! я один за всех их на дуэль вас вызову! Вздор вы говорите.
Да уж если на то пошло, так слушайте! Был у меня приятель тут по соседству, исправлявший должность учителя уездного училища, и захотел он нажиться, поехал к ним, к казакам-то, на Дон, там библиотеку где-то публичную открыл. Последние деньжонки, бедняк, на нее убил. Что же бы вы думали? Приходит к нему подписаться на чтение сын какого-то ихнего там не то купца, не то горожанина; залог оставил. Рвение к литературе показал; признался, что круглый невежда, что учиться хочет, и попросил ему выбрать что-нибудь для чтения. Учитель-библиотекарь выбрал ему Белинского, Грановского там, что ли. Радуется, что такое стремление у малого заметил. Что же бы вы думали? Через неделю приходит кучер от батюшки этого малого и приносит обратно книги. «Старик, говорит, прислал ваши книги обратно; готов и залог вам оставить задаром – только не давайте его сыну больше ничего читать: от дела отбивается!»
Все начали ахать, возражать, уверять, что это преувеличения.
– Что вы, господа, этому не верите? – возразила невпопад, не расслушав дела, Авдотья Петровна Щелкова, желая поддержать полковника, – я сама от детства ни одной книги до конца не прочитала; все некогда… книги вред, да и не для нашего брата степняка они писаны! Недаром я бросила Рязань и сюда закабалилась!
– Нет, нет и нет! – заключил полковник, – если справедливы слухи о близкой, наконец, реформе крестьянской, наши села запустеют, хлебопашество упадет! Мы разоримся, обнищаем все. Если бы, господа, я был американец и жил с вами не в России, а, положим, в Виргинии или в штате Мерилэнде, – я, в случае войны за невольничество, стал бы открыто на сторону закабаления негров…
– Негров? вот мило! – сказали некоторые дамы, под общее увлечение входя также в кабинет и протеснясь к полковнику, – это что-то из «Хижины дяди Тома»…
– Пустозвоны ваши литераторы! – крикнул наконец с запальчивостью Панчуковский, – ну, чего они не напичкали в этот сборник всякого вздора! Что за святость страданий у этих скотов? Что за поэзия побегов и воспевание освобождения от труда! Ведь рабство это – труд, а труд – кусок хлеба, а хлеб – честь, нравственность! Уж не вздумают ли идеализировать и наших беглых беспаспортных бродяг, месяца полтора назад заставивших меня, из-за расчета с негодяями-косарями, выдержать правильную осаду?..
– Ах, месье Панчуковский! – лукаво разахались дамы и девицы, знавшие между тем настоящую причину соблазнительного скандала, посетившего полковника, – расскажите, как это с вами было? Мы не знаем… Чего добивались у вас эти мятежники? Мы тогда перепугались, мужья ружья готовили…
Панчуковский вздохнул и смиренно опустил глаза.
– Сожгли у меня все-с, набуянили, стекла в доме перебили, шинок у откупщика насильно распили!
– Вы же на них искали?
– Искал. Но разве вы не знаете наших судов? Кое-кого поймали; но это все оказались неприкосновенные к делу! их выпустили, а главных, то есть главного зачинщика не нашли…
– Кто же этот главный? – спросила со смирением Иуды Авдотья Петровна, натершая порядком язык, тараторя всем об истории Левенчука и Оксаны.
– Беглый пастух какой-то помещицы, взбунтовавший три артели косарей требованием надбавки заработанной платы при расчете сверх условия… Тоже известное дело…
– Где же он теперь?
– Говорят, убежал в донские плавни и камыши, известный всем притон наших разорителей.
– И его товарища, месье, разыскивают – Милороденко или Александра Дамского по прозванию, – заметила, кашляя, Щелкова, – тот так уже прямо ассигнации стал делать, и с ним, говорят, везде был за одно. Я брала у отца Павладия газеты и о нем читала. Моя Нешка, – ma ser-vante, messieur19, – тоже с этим Милороденко подружилась было, когда он еще у Шутовкиных год назад шлялся. Этот еще опаснее. Смел, говорят, до невероятности. Мне его описывали. На взморье он в прошлом году с двумя лодками турецкую кочерму ограбил… Я хоть его и не видела, а кажется, сразу бы узнала…
– Да, – возразил насмешливо Панчуковский, – и Троекуров у Пушкина хвастал, что узнал бы разбойника Дубровского сразу, а Дубровский у него три месяца учителем прожил… Вы читали «Дубровского»?
– Я ничего не читала и в Рязани, а здесь и подавно некогда.
Слуги в это время убирали закуску в зале и все слышали. Слуга полковника нежданно скрылся и за обедом вышел с подвязанным глазом.
– Что это у тебя, Аксентий? – спросил его рассеянно Панчуковский за обедом.
– За девочкою тут, сударь, погнался за двором у сарайчика, а она меня и съездила кулаком в глаз! – шепнул Шкатулкин ему на ухо.
Полковник в это время ел индейку с жирным фаршем, любимое свое блюдо. Он громко рассмеялся, повеселел, и все с ним повеселели.
– А сдастся? – спросил также шепотом слугу полковник после обеда, – сдастся твоя героиня?
– Сдастся! У старой барыни их здесь целый гарем-с: останьтесь, сударь; попозднее можно поохотиться. Я взял бубен с собою и заманю их всех к кучеру Конону в хату…
– Посмотрим! Надо осторожнее…
После обеда во время десерта приехал Мосей Ильич Шутовкин. Сластолюбивый забулдыга-купчик был на этот раз прифранчен, в тонком сюртучке и чистом голландском белье. Это было после того, как Панчуковский выходил с дамами во двор и плясал с дворовыми девушками трепака. Это была его специальность на всех дружеских съездах.
– Что вы на пирог к нам не приехали? – спросил Шутовкина Митя Небольцев, – мы вас ждали! Верно, опять шуры-муры где-нибудь затеяли? Благо детей к нам вперед послали…
– Ванну моей царице Пентефрии делал-с, так и провозился с ее туалетом; к родным ее отпустил!
Молодежь, бывшая уже снова в доме, прыснула со смеху. Пошли передавать друг другу ответ Мосея Ильича.
Шутовкин стал между тем искать глазами Панчуковского, увидел его в кругу дам, по обыкновению в положении оратора, и поманил его пальцем.
– Подь сюда, полковник, подь сюда! – сказал он ему, оглядываясь.
Панчуковский подошел. Шутовкин отвел его в сторону и не отпускал его руки. Собственная жирная и теплая рука Мосея Ильича дрожала.
– Владимир Алексеич, принимай меры! – начал он степенно и без шуток, упершись в него серыми и добрыми, будто испуганными глазками.
– Что такое?
Душа у полковника замерла, чуя что-то недоброе. Шутовкин оглянулся кругом и продолжал говорить шепотом:
– Ты от меня скрывал, а бес тебя и попутал! Я вчера из города прибыл; маклачил там кое с чем, с чиновниками видался. Ходит, душечка, там слух, что… одна помещица какая-то… Перепелицына, что ли, приехала и тебя насчет каких-то денег разыскивает.
Панчуковский вздрогнул и позеленел.
– Ну?..
– Она тебя разыскивает, справки собирает о твоих делах. Ты ее в любовницах держал, что ли, или венчан с нею? говори!
Панчуковский молчал, не поднимая глаз. Эта весть, видимо, его окончательно сразила.
– Капиталы ты у нее взял, что ли, деньги увез какие? Много?.. Да говори же! Я тебя, Володя, спрашиваю, или ты и от меня скрываться? А брудершафт зачем мы пили с тобой намедни?
Панчуковский опомнился.
– Все это вздор; это сумасшедшая баба, и все тут! – сказал он. – Я ее не приму! Кто меня заставит? Ведь так? Я от нее отрекусь. Ну, отрекусь окончательно!
Шутовкин отвел его еще далее в угол.
– Да она тебе законная, что ли, говори? Это главное. Коли что, то мы ее и спустим! Вот тебе рука моя, брат! Ведь я у тебя в долгу, разве ты позабыл? Без тебя бы я тогда ни-ни, ничего бы не сотворил! Уж отстоим небось; нам эти бабьи дела не впервое. Или ты и в самом деле у нее капитальцу царапнул да сюда в наше приволье тягу дал? Да и почему она Перепелицына, а ты Панчуковский, коли вы, может статься, точно повенчаны? Какие там слухи ходят?
Панчуковский оглянулся, закусил губу, помолчал, прищурил глаза к стороне нарядной толпы. Подавали уже свечи. Все кругом шумело, лепетало. Рояль гремел. Ставили столы для карт. Аксентий с хозяйским слугой курил на раскаленных плитках лоделавандом, прогоняя запах недавнего обеда.
– Молчи, дружище Мосей Ильич, до времени, как будто бы ты ничего не слыхал и не знаешь. Я тебе все после расскажу. Будешь молчать? Руку, товарищ!
– Вот она. Ни-ни! Я… о, я никому ни слова!
Шутовкин и полковник обнялись и крепко поцеловались.
– А крестить будешь у меня, Володя?
– Буду.
– Постой еще…
– Что?
– Если же это, слушай, точно твоя жена… гм! и придется тебе с ней опять зажить по закону, – девочку-то твою ты мне отпустишь, что ли, а? уступишь?
– Никогда, никогда этому не бывать! – сказал полковник. – Я, слава тебе господи, еще с ума не сошел, чтоб менять кукушку на ястреба…
Они об руку друг с другом вмешались в нарядную толпу. Давно гремел звонкий рояль. Молодежь пустилась в пляс; южная страстишка попрыгать брала верх. Танцевали тут всегда до упаду. Играл Михайлов.
А полковник, снова оживленный и бойкий, стоя в дамском кругу, в гостиной, опять ораторствовал:
– Наши новороссийские степи – это, медам, рай земной! Засухи, саранчу, пыль – все это можем победить и преодолеть. Людей только нам дайте, людей, этих-то белых негров поболее. В каждом месте этой степи проройте колодезь, ключ раскопайте, и сухая, как уголь, черная земля изумит вас плодородием; стада сами к нам придут. Мы об Америке вздыхать позабудем. Свои Куперы у нас будут…
– А теперь, месье Панчуковский? Как вы теперь считаете Новороссию нашу?
– Теперь?.. – Панчуковский иронически улыбнулся.
– Да-с.
– Теперь наши степи напоминают мне украинскую сказку о том, как обыкновенно перед бедою будто бы в хаты кто-то белый все с улицы заглядывает, считая по пальцам живущих там, спящих и работающих. Народ говорит, что перед последнею здесь чумою, при Екатерине, что ли, на степных курганах рано поутру видали все двух женщин; это были две моровые сестры: младшая – жизнь, а старшая – смерть; они дрались и таскали друг друга за волосы, споря о людской судьбе и готовя народу бедствия. Таких-то сестриц и я все будто теперь вижу тут с недавних пор! – заключил Панчуковский, кланяясь. – И вы меня не уверите; нам беды с ожидаемыми реформами не миновать! Прощай, веселая, спокойная и счастливая сторона! Все здесь вымрет, переведется и зарастет лопухами и чертополохом…
– Какие страсти! Какие ужасы! – шептали дамы, теснясь вокруг него и лорнируя.
– Я уж и ружье приказчику купила, а револьвер у меня всегда теперь под подушкой! – заключила Щелкова, – не уверите вы и меня, чтобы у нас прошло все мирно. Моя Нешка мне вчера платок швырнула со злости.
– Гений, а не человек! – шептали другие дамы, имевшие дочерей, – и как жаль, что неженатый.
Панчуковский оставил дам, незаметно прошел сквозь веселую толпу танцующих в зале, взял тайком шляпу, тихо вышел на крыльцо, переждал, пока запрягли ему лошадей, сел и полетел домой на своей крылатой четверне.
– Отчего же это вы, барин, не дождались и так рано уехали? – спросил дорогою Милороденко с козел, с сожалением качая головою, – а я уж кой-кого подготовил…
– Черт их подери! Я терпеть не могу, братец, этих наших веселостей, особенно же танцев… То ли дело с простыми девочками, где-нибудь под вербой – она пышет, пляшучи, а ты ее целуешь! Не люблю я барышень!..
– Ничего, сударь, и это; тут барышни обнаковенно с голыми плечиками бывают… Я всегда в таком случае люблю их танцы и постоянно смотрю из передней-с.
Приехав домой, Панчуковский сел за бумаги; под видом ревнивых предосторожностей в отношении к своей любимице, действительно почувствовавшей признаки интересного положения, он велел опять запирать ворота и все входы и выходы. От главных же дверей в доме ключ взял к себе в кабинет, а на ночь кругом запер весь дом собственноручно.
– Мне это, сударь, невыгодно! – заметил шутливо Аксентий, его раздевая.
– Отчего?
– Вы понимаете-с…
– Ничего! переждешь, брат. Днем наверстаешь, спи в передней! Теперь уж на дворе и холодно; да говорят еще, будто какая-то шайка из острога разбежалась. Подкованцева под суд отдают…
– Шайка-с? Подкованцева? – спросил, перепугавшись, Милороденко.
– Да.
– Ну, так и точно, лучше побережемся! Бедняк, бедняк! Жаль этого-с исправника. А вы за мною – спокойно спите… я ведь покаялся, я нынче монах-с. Любите меня, а я уж по-христиански обойдусь с вами…
Осень кончилась. Пролетели громадные воздушные армии перелетных птиц. Настала гнилая, бесснежная приморская зима, длинные ночи, короткие холодные деньки, с зеленеющими полями, стадами овец в степи, быстрыми и краткими налетными метелями и изредка хмурым, сердитым небом. Снег падает и тотчас почти тает, либо заметет степь, дороги. Все замерзло; вот стал зимний русский путь. Завтра дождь, послезавтра адская грязь. Арбы вязнут, верблюды и волы тонут по брюхо. Одна езда верхом становится возможною. И опять холод, опять тепло. Два дня погрело солнышко – и уж летят снова дикие гуси, журавли; аисты ходят по пустырям, пеликаны по озерам и лиманам. В деревнях барыни на крылечки выставляют цветы на воздух. Овцы опять движутся на подножный корм в поле. А февраль еще на дворе. У прибрежья в синих волнах снуют лодки, корабли показываются. Невода опять тянут. Костры горят. Торговля зашевелилась. Конторские маклера рыщут по городам. Но небо опять нахмурилось, налетели с севера тучи, и Новороссия, южнорусская Италия, опять становится мертвою, суровою Скифией.
Слухи о мадам Перепелицыной прошли было и замолкли. Панчуковский совестился ехать в город и лично хлопотать. Он решился показать вид, что спокоен, а потом и в самом деле успокоился. Михайлов уехал в Одессу.