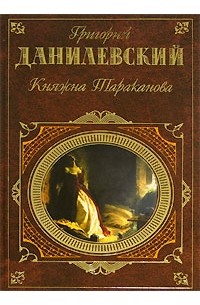Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
XX
Упорство пленницы было Екатерине непонятно и выводило ее из себя.
– Как! – рассуждала она. – Сломлена Турция. Пугачев пойман, сознался и всенародно казнен… а эта хворая, еле дышащая женщина, эта искательница приключений… ни в чем не сознается и грозит мне, из глухого подземелья, из норы?
Потемкин, узнав от Христенека подробности ареста княжны, мрачно дулся и молчал. Екатерина относила это к припадку его обычной хандры.
Вскоре и другие из ближних императрицы узнали, каким образом Орлов заманил и предал указанное ему лицо, и сообщили об этом государыне через ее камер-юнкеру Перекусихину. Екатерина сперва не поверила этим слухам и даже резко выговорила это своей камеристке. Секретный рапорт прямого, неподкупного Голицына о положении и признании арестантки вполне подтвердил сообщение придворных. Женское сердце Екатерины возмутилось.
– Не Радзивилл! – сказала она при этом. – Тому грозила конфискация громадных имений, а он не выдал преданной женщины!
«Предатель по природе! – шевельнулось в уме Екатерины при мыслях об услуге Орлова. – На все готов и не стесняется ничем… не задумается, если будет в его видах, и на другое!»
Вспомнились Екатерине при этом давние строки: «Матушка царица, прости, не думали, не гадали…»
– Недаром его зовут палачом! – презрительно прошептала Екатерина. – Пересолил, скажет, из усердия… Впрочем, приедет – надо поправить дело… Эта потерянная – без роду и племени – игрушка в руках злонамеренных, у него она будет бессильна… А ей, продававшей в Праге пиво, чем не пара русский сановник и граф?
Сельские тихие виды Царицына и Коломенского стали тяготить Екатерину. Леса, пруды, ласточки и мотыльки не давали ей прежнего покоя и отрадных снов.
Императрица неожиданно и запросто поехала в Москву.
Там, в Китай-городе, она посетила архив коллегии иностранных дел, куда перед тем по ее приказанию были присланы на просмотр некоторые важные бумаги. Начальником архива в то время состоял знаменитый автор «Опыта новой истории России» и «Описания Сибирского царства», бывший издатель академических «Ежемесячных сочинений», путешественник и русский историограф, академик Миллер. Ему тогда было за семьдесят лет. Императрица, сама усердно занимаясь историей, знала его и не раз с ним беседовала о его работах и истории вообще. Она его застала на квартире, при архиве, над грудой старинных московских свитков. Миллер был большой любитель цветов и птиц. Невысокие светлые комнаты его казенной квартиры были увешаны клетками дроздов, снегирей и прочей пернатой братии, оглушившей Екатерину разнообразными свистами и чиликаньями. Стеклянная дверь из кабинета хозяина вела в особую, уставленную кустами в кадках светелку, где при раскрытых окнах, завешанных сетью, часть птиц летала на свободе. Запах роз и гелиотропов наполнял чистые укромные горенки. Вощеные полы блестели, как зеркало. Миллер работал у стола, перед стеклянною дверью в птичник. Государыня вошла незаметно, остановив засуетившуюся прислугу.
– Я к вам, Герард Федорович, с просьбой, – сказала, войдя, Екатерина.
Миллер вскочил, извиняясь за домашний наряд.
– Приказывайте, ваше величество, – произнес он, застегиваясь и отыскивая глазами куда-то, как ему казалось, упавшие очки.
Императрица села, попросила сесть и его. Разговорились.
– Правда ли, – начала она после нескольких любезностей и расспросов о здоровье хозяина и его семьи, – правда ли… говорят, вы имеете данные и вполне убеждены, что на московском престоле царствовал не самозванец Гришка Отрепьев, а настоящий царевич Димитрий? Вы говорили о том… английскому путешественнику Коксу.
Добродушный, с виду несколько рассеянный и постоянно углубленный в свои изыскания, Миллер был крайне озадачен этим вопросом государыни.
«Откуда она это узнала? – мыслил он. – Ужели проговорился Кокс?»
– Объяснимся, я облегчу нашу беседу, – продолжала Екатерина. – Вы обладаете изумительною памятью; притом вы так прозорливы в чтении и сличении летописей; скажите откровенно и смело ваше мнение… Мы одни – вас никто не слышит… Правда ли, что доводы к обвинению самозванца вообще слабы, даже будто бы ничтожны?
Миллер задумался. Его взъерошенные на висках седые волосы странно торчали. Добрые, умные губы, перед приездом государыни сосавшие полупогасший янтарный чубук, бессознательно шевелились.
– Правда, – несмело ответил он, – но это, простите, мое личное мнение, не более…
– Если так, то почему же не огласить вам столь важного суждения?
– Извините, ваше величество, – проговорил Миллер, растерянно оглядываясь и подбирая на себя упорно сползавшие складки камзола, – я прочел розыск Василия Шуйского в Угличе. Он производил следствие по поручению Годунова и имел расчет угодить Борису, привезя ему показания лишь тех, кто утверждал сказки об убиении истинного царевича; другие, неприятные для Годунова, следы он, очевидно, скрыл.
– Какие? – спросила Екатерина.
– Что погиб другой, а мнимоубитый скрылся. Вспомните, ведь этот следователь, Шуйский, потом сам же всенародно признал царевичем возвратившегося Димитрия.
– Довод остроумный, – сказала Екатерина, – недаром генерал Потемкин, большой любитель истории, советует все это напечатать, если вы в том убеждены.
– Помните, ваше величество, – проговорил Миллер, – воля монархини – важный указатель; но есть другая, более высшая власть – Россия… Я лютеранин, а тело признанного Димитрия покоится в Кремлевском соборе… Что сталось бы с моими изысканиями, то сталось бы и со мной среди вашего народа, если бы я дерзнул доказывать, что на московском престоле был не Гришка Отрепьев, а настоящий царевич Димитрий?