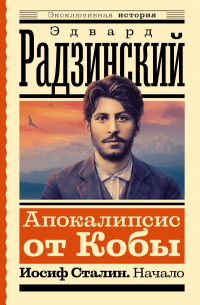Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Революция
Помню точно, что в двадцатых числах февраля я шел по Невскому, не зная, что в последний раз вижу этот исчезнувший нынче мир. Вскоре закроются мои глаза, и уйдет навсегда та картинка…
Февральский снег с дождем. Пробирает до костей ветер с Невы. Ненавистный город императоров. Атлантида несравненной красоты, которую мы мечтали отправить на дно. Чужой, по виду иностранный город: немецкая прямизна проспектов, на Александровой колонне у царского дворца ангел обнимает католический крест… В шинели, небрежно наброшенной на плечи, промчался в коляске кавалергард. В изящном ландо проезжает дама в вуали. Огромная шляпа с цветами, как корабль, плывет над толпой; откинувшись на сиденье, дама в лорнетку осматривает публику. Околоточные появились на улице, дворники вышли за ворота – прежде это значило, что вскоре проедет царь… Но теперь царь на фронте. Скорее всего проедет всесильный министр Протопопов. Вся сила которого исчезнет в эти три дня… вместе с трехсотлетней империей.
Но пока в Летнем саду еще гуляют степенные бонны с детьми. Статуи античных богов заключены в ящики, оберегающие их от зимней непогоды, стоят меж голых деревьев… Спокойный, размеренный, сонный дневной мир столицы великой державы… Будто нет никакой войны, будто не погибают в эти минуты под пулями вопящие «ура» люди…
Мы должны были взорвать трехсотлетний российский мир.
Как только царь уехал в Ставку, в столице начались перебои с хлебом. По чьей-то команде на окраинах стали собираться недовольные толпы. Вскоре они хлынули в центр города. Сперва шли по тротуарам, заунывно выкрикивая: «Хлеба! Хлеба!» Потом вышли на мостовые… Огромные, все растущие толпы. И в них обязательно были мы, посланцы Парвуса, как правило, эсеры или меньшевики. (Большевиков в столице в это время – раз, два и обчелся. Верхушка партии – Ленин и прочие лидеры – в эмиграции в Швейцарии, остальные – по тюрьмам и ссылкам.) Объясняем, призываем «прогнать кровавого царя». К нам присоединяются студенты. И вот уже над толпой поднимаются откуда-то взявшиеся транспаранты: «Долой войну! Долой самодержавие!»
Теперь во всех митингующих толпах обязательные ораторы – студент, курсистка и мы, посланцы Толстяка! На нас – на митингующую толпу – как-то устало, явно нехотя, наезжают казаки, разгоняют. Люди разбегаются по маленьким улочкам, и казаки… уезжают! Тотчас толпы собираются вновь.
Как я уже говорил, всего год с небольшим назад Ильич заявил: «Нам, нынешнему поколению революционеров, не увидеть Революции в России». И вот в Петроград приехал посланец от Ленина. Передал мне удивительное письмо. Ленин писал, что вскоре ожидается Революция! «Восстанет Петроградский гарнизон. Гарнизон состоит из выздоравливающих раненых и проходящих военное обучение резервистов, то есть сынков влиятельных людей, укрывшихся от фронта. Вся эта публика готова на все, только бы не идти на фронт. Восстание солдат в провинции – это бунт, восстание в столице – Революция. Ваша задача: незамедлительно связаться с нашими петроградскими большевиками. Действуйте и еще раз действуйте! В 1905 году мы проспали Революцию, на этот раз мы этого не допустим».
Но «наших» пришлось искать. Петроградские большевики по-прежнему скрывались в подполье и очень осторожничали. С большим трудом согласились встретиться со мной днем в Александринском театре, где билетером работал весьма редкий в столице большевик.
В те дни в Александринском шли генеральные репетиции пьесы Лермонтова «Маскарад». «Маскарад» – мистическая пьеса. В 1941 году, в день объявления войны, ожидалась ее премьера в Москве… И тогда, в конце февраля 1917 года, в дни гибели Империи, готовилась ее премьера в Петрограде…
«Наш» билетер провел меня в пустое фойе – репетиция уже началась.
Там ждал меня представитель той самой кучки петроградских большевиков. Невысокий, приятный, аккуратненький, в пенсне. Увидев меня, он оторопел и воскликнул:
– Коба?! – Но тут же понял: ошибся. Сказал с усмешкой: – Вы с ним похожи.
Оказалось, они были с Кобой вместе в одной из ссылок.
Так я познакомился с Вячеславом Молотовым. (Молотов – партийная кличка, его настоящую фамилию – Скрябин – я узнал после революции.)
Он повел меня на нелегальную квартиру знакомиться с остальными большевиками.
Перед тем как уйти, я решил хоть глазком поглядеть на спектакль, уж очень много ходило о нем слухов. Попросил «нашего» билетера, он тихонечко приоткрыл дверь в ложу, я встал за портьерой. Ложи и зал были переполнены, шла генеральная репетиция. Декорация ошеломила! Гигантские зеркала, золоченые двери, люстры – водопады хрусталя! Это была декорация мира, который там, на улице, уходил в небытие…
Я вернулся в фойе. Молотов встретил меня насмешливой улыбкой: такие глупости, как театральный спектакль, его тогда не интересовали.
Мы вышли на Невский. Был разгар дня. Все те же толпы беспорядочно двигались по улицам.
Молотов шел впереди, я – за ним, проверяя, чтоб за нами не было хвоста.
Квартира оказалась на Кронверкском. Как и положено, вход в подпольную квартиру был до предела запутан. С переулка вошли в здание городской биржи труда, потом пробирались через какую-то лавку, затем поднялись по пыльной, сто лет не убиравшейся лестнице. Далее открылась анфилада комнат, почему-то уставленных пустыми столами. В конце анфилады пряталась крохотная дверца – входить, точнее, заползать в нее пришлось пригнувшись.
Здесь в двух комнатушках ютился Петроградский комитет партии большевиков. Шло совещание главных сил нашей недобитой партии. Двое весьма непрезентабельного вида молодых людей сидели за дощатым столом президиума, украшенным всевозможными чернильными кляксами и длинной надписью «Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Лассаль».
Это и были руководители петроградцев – Шляпников и Залуцкий. Аккуратненький Молотов тотчас подсел к ним за стол – в президиум заседания. Главным в тройке явно был Шляпников.
Он уже посидел в тюрьмах, пожил в эмиграции, являлся, кажется, членом Французской социалистической партии. Единственный из тройки он знал европейские языки. Однако по-русски говорил с простонародным волжским акцентом. По виду – типичный рабочий, носил, как Молотов, косоворотку и пышные усы мастерового.
Он важно пригласил меня подсесть к ним. Я сел за стол.
Напротив нас на стульях и подоконнике разместились десятка полтора человек – весь оставшийся на свободе актив партии.
Сразу перешли к обсуждению плана действий. Я прочел письмо Ильича, но обговорить его не успели. Помню, вбежал человек, выкрикнул:
– Товарищи! Павловский полк восстал! – Торопливо начал объяснять: – Гвардейцам приказали разогнать демонстрацию, они отказались!
Но его уже не слушали. Восстали солдаты! Мать родная, да это же она – Революция! Все опрометью бросились на улицу, орали «ура!».
Мы добежали до Конюшенной площади.
Там, окруженная гвардейцами-преображенцами, стояла толпа гвардейцев-павловцев. В Павловский гвардейский полк по традиции должны были набираться курносые, малорослые, похожие на императора Павла мужчины, в отличие от Преображенского полка, куда со времен Петра брали только рослых и прямоносых. Но все это было прежде.
Теперь резервистов набрали с бору по сосенке, и там и тут встречались курносые и прямоносые, маленькие и высокие. Но дух безумного императора остался в Павловском полку. Волнения начались у них первых.
Офицер-преображенец вяло уговаривал толпу павловцев вернуться в казармы, уныло грозил расправой.
Испуганные, очумелые солдатские лица. Но в казарму не идут. Топчутся, выкрикивают:
– Мы за свободу. Нет у вас, ваше благородие, такого разрешения, чтоб в народ стрелять! Не хотим!
Вокруг уже собралась огромная толпа зевак. Из толпы я услышал:
– За священником послали «к Пушкину»… Чтоб усовестил.
(Совсем рядом была церковь, где отпевали убитого Пушкина.)
Я подумал: сейчас батюшка придет, уговорит разойтись. И потеряем такое!
Но повезло. В этот самый решительный момент подлетел в коляске полковой начальник – полковник. Стал лицом к павловцам. И матерком их! Заорал:
– Я вам покажу, как бунтовать, мерзавцы, так вас разэтак! – И опять матерком.
Я его лица не увидел. Помню только голову в фуражке и шею, толстую, баранью. И голос зычный. Как же он разорялся!..
Вижу, начали колебаться павловцы. Глаза в землю уперли.
Понял: вот он, самый решительный миг. Револьвер (браунинг) рывком из кармана. Из-за спин, не целясь, пальнул в полковничью голову…
Вздох толпы… Исчезла шея.
Восторженное лицо Шляпникова и спокойное, невозмутимое – Молотова…
Могли, конечно, тотчас меня схватить. Я уж приготовился пробивать револьвером дорогу. Ан нет!
Шляпников:
– Беги!
Подхватили, зашептали в толпе:
– Беги, товарищ!
И я дал стрекача оттуда! Бежал и уже не сомневался: теперь они дело продолжат. С испугу продолжат.
Рассказывал Шляпников: когда я сбежал, пришел священник «от Пушкина». Начал уговаривать разойтись. Да поздно. Солдатики знали – убийство полкового теперь на них. Отступать некуда. И продолжили. Вечная сладкая зараза русского бунта…
Вскоре к павловцам присоединились запасные полки – Волынский, Литовский и… Преображенский! Гуляй, резервисты! Куда лучше, чем на фронт – умирать. Уже к вечеру двадцать седьмого весь стотысячный петербургский гарнизон был на стороне Революции. Город оказался в руках восставших. До смерти не забуду: Невский проспект, и по нему – по мостовой – идет толпа в полсотни тысяч человек. Кто и как ее собрал?! Никто не знает. Толпа затопила всю проезжую часть и тротуары, громыхала «Марсельезой». Вмиг стала вся красная – от бантов, флагов и повязок на рукавах.