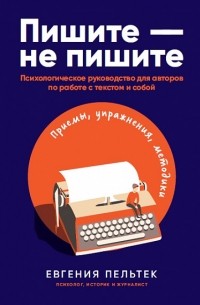Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Часть I. Исцеление текстом
Тексты вызывают сопротивление у большинства авторов. Писать их бывает трудно, даже больно. Ты вытаскиваешь на свет божий «непарадные» черты своего характера, ковыряешь кровоточащие ранки обид, теребишь болезненные воспоминания. Смешки одноклассников, долгая болезнь, любовь без взаимности, страх перед новой работой, стыд, злость, печаль…
Мало того! В процесс то и дело вмешивается пресловутый «внутренний критик». Например, он говорит: «Никому не интересна чушь, которую ты пишешь». Или: «Запихни все это обратно, пока никто не прочитал!» А может и вовсе завернуть: «Чтобы писать интересно, важен глубокий личный опыт, чувство стиля, богатый словарный запас, всестороннее образование и знание тонкостей человеческой натуры».
Сложно, сложно, сложно…
Но вот парадокс! В глубине души мало кто из авторов считает, что писать – такое уж мудреное занятие. Моя трудовая биография, например, свидетельствует об обратном. В юности я не мечтала стать писателем или журналистом. «Зачем, если писать я и так умею?» – рассуждала я.
Мною владела детская идея всемогущества. Когда мне было шесть, мы с мамой часто играли в рифмы, и я была убеждена, что отлично пишу стихи. До сих пор в старой коробке хранится тетрадка с великолепными образцами: «По полу бежала мышка, на мышку упала крышка, на крышке написано слово. Какое слово? – “Корова”!»
Когда мне было двенадцать, я читала много фэнтези-романов и была свято уверена, что могу так же. Когда мне было четырнадцать, я писала по ночам истории о гномах и драконах в школьной тетрадке и в глубине души до сих пор уверена, что у меня получалось не хуже, чем у многих классиков жанра. В каком-то смысле я так и не излечилась от этой идеи. Мы все знаем буквы, так? Значит, и писать умеем все. Это просто одна из форм общения.
Работать с текстами я начала из лени. В студенчестве многие подрабатывают. Чаще студентов берут на низкоквалифицированные простые должности, где не требуется особых навыков. Некоторым удается сразу устроиться по специальности. Моя специальность (историк) оплачиваемой работы вне археологического сезона не сулила, бариста или официанткой быть не хотелось. Подработку я искала по принципу «где бы работать, чтобы не работать». И тут во мне снова взыграла шестилетняя рифмоплетка: «Что мне проще всего? – Писать».
Я была верна своей лени: редакция коммерческой газеты, куда меня приняли, находилась через дорогу от университета. С первым редактором тоже повезло. Он называл тексты стажеров-новичков «гениальнейшими», правил их одной левой и лихо цитировал Марка Твена («Впервые слышу, что для редактирования газеты необходимо что-нибудь знать!»). От него я научилась главному: без юмора писать незачем.
Свою писанину в разные журналы и газеты я считала смешной подработкой, пока однажды не обнаружила себя на собеседовании в одном из самых крупных издательских домов города, куда даже не подавала резюме. Меня взяли в журнал, который стал вторым университетом, где я уже всерьез обучилась профессии.
Тогда мне казалось, я просто иду по пути наименьшего сопротивления. Сейчас я думаю иначе: тексты помогли мне выжить и социализироваться. До двадцати лет я была закрытым человеком с прочнейшими границами. Мой круг общения был узок.
Сделав публицистику своей работой, я не оставила себе выбора, – писать для меня значило зарабатывать, общаться, повышать статус, а иногда и просто выходить на улицу. Писательство стало для меня не просто профессией, а проводником и лекарством от одиночества.
Теперь я знаю: по этому пути я шла в теплой компании других литераторов.
«Многие писатели говорят, что сочинительство – это, кроме всего, еще и своего рода терапия, – пишет, например, сценарист, писатель и преподаватель Юрген Вольф в своей “Школе литературного мастерства”. – Даже если сюжет не полностью повторяет происходившие в реальности события, то, описывая свои проблемы, страхи и душевные муки, писатель все равно освобождается от своего душевного груза и, делясь своими переживаниями с читателями, сам излечивается».
Энн Ламотт в своей книге «Птица за птицей» и вовсе называет писательство «успокаивающей привычкой» – «как грызть ногти». Вместо того чтобы бояться жизни и прятаться от невзгод, Энн предлагает стать наблюдателем и жадно впитывать все, что происходит, чтобы потом «выдать» на бумагу. Конечно, такое «зрительское» место – непростой выбор. Но, пожалуй, более продуктивный, чем просто грызть ногти.
Больше всего мне нравится, как просто и лаконично сформулировал роль писательства в жизни Стивен Кинг. «Поставьте свой стол в углу, – предложил он, – и каждый раз, когда принимаетесь писать, напоминайте себе, почему он не в середине. Жизнь – это не поддерживающая система для искусства. Все совсем наоборот».
О том, как искусство поддерживает писателя, и пойдет речь в этом разделе.