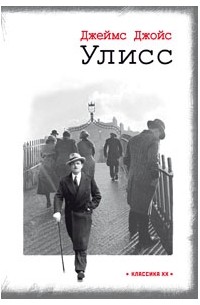Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
3. Протей
Неотменимая модальность зримого. Хотя бы это, если не больше, говорят моей мысли мои глаза. Я здесь, чтобы прочесть отметы сути вещей: всех этих водорослей, мальков, подступающего прилива, того вон ржавого сапога. Сопливо-зеленый, серебряно-синий, ржавый: цветные отметы. Пределы прозрачности. Но он добавляет: в телах. Значит, то, что тела, он усвоил раньше, чем что цветные. Как? А стукнувшись башкой о них, как еще. Осторожно. Он лысый был и миллионер, maestro di color che sanno. Предел прозрачного в. Почему в? Прозрачное, непрозрачное. Куда пролезет вся пятерня, это ворота, куда нет – дверь. Закрой глаза и смотри.
Стивен, закрыв глаза, прислушался, как хрустят хрупкие ракушки и водоросли у него под ногами. Так или иначе, ты сквозь это идешь. Иду, шажок за шажком. За малый шажок времени сквозь малый шажок пространства. Пять, шесть: это nacheinander. Совершенно верно, и это – неотменимая модальность слышимого. Открой глаза. Нет. Господи! Если я свалюсь с утеса грозного, нависшего над морем, свалюсь неотменимо сквозь nebeneinander. Отлично передвигаюсь в темноте. На боку ясеневая шпага. Постукивай ею: они так делают. Ноги мои в его башмаках и его штанинах, nebeneinander. Звук твердый: выковано молотом демиурга Лоса. Не в вечность ли я иду по берегу Сэндимаунта? Хруп-крак-скрип-скрип. Ракушки, деньги туземцев. Магистер Дизи в них дока.
Смотри, вырисовывается ритм. Полный четырехстопник, шаги ямбов. Нет, галоп: роти кобылка.
Теперь открой глаза. Открываю. Постой. А вдруг все исчезло за это время? Вдруг я открою и окажусь навеки в черноте непрозрачного. Дудки! Умею видеть – буду видеть.
Что ж, смотри. Было на месте и без тебя: и пребудет, ныне и присно и во веки веков.
Они осторожно спустились по ступеням с Лихи-террас, Frauenzimmer; и по отлогому берегу косолапили вяло, в илистом увязая песке. Как я, как Элджи, стремятся к нашей могучей матери. У номера первого шверно болталась акушерская сумка, другая тыкала в песок большим зонтиком. На денек выбрались из слободки. Миссис Флоренс Маккейб, вдовица покойного Пэтка Маккейба с Брайд-стрит, горько оплакиваемого. Одна из ее товарок выволокла меня, скулящего, в жизнь. Творение из ничего. Что у нее в сумке? Выкидыш с обрывком пуповины, закутанный в рыжий лоскут. Пуповины всех идут в прошлое, единым проводом связуют-перевивают всю плоть. Вот почему монахи-мистики. Будете ли как боги? Всмотритесь в свои омфалы. Алло. Клинк на проводе. Соедините с Эдемом. Алеф, альфа: ноль, ноль, единица.
Супруга и сподручница Адама Кадмона: Хева, обнаженная Ева. У нее не было пупка. Всмотрись. Живот без изъяна, пергаменом крытый крупный круглится щит, нет, ворох белой пшеницы, восточной и бессмертной, сущей от века и до века. Лоно греха.
В лоне греховной тьмы и я был сотворен, не рожден. Ими, мужчиной с моим голосом, с моими глазами и женщиной-призраком с дыханием тлена. Они сливались и разделялись, творя волю сочетателя. Прежде начала времен Он возжелал меня и теперь уж не может пожелать, чтобы меня не бывало. С ним lex eterna. Так это и есть божественная сущность, в которой Отец и Сын единосущны? Где-то он, славный бедняга Арий, чтобы с этим поспорить? Всю жизнь провоевал против единосверхвеликоеврейскотрахбабахсущия. Злосчастный ересиарх. Испустил дух в греческом нужнике – эвтанасия. В митре с самоцветами, с епископским посохом, остался сидеть на троне, вдовец вдовой епархии, с задранным омофором и замаранной задницей.
Ветерки носились вокруг, пощипывая кожу преизрядно. Вот они мчатся, волны. Храпящие морские кони, пенноуздые, белогривые скакуны Мананаана.
Не забыть про его письмо в газету. А после? В «Корабль», в полпервого. И кстати, будь с деньгами поаккуратней, как примерный юный кретин. Да, надо бы.
Шаги его замедлились. Здесь. Идти к тете Сэре или нет? Глас моего единосущного отца. Тебе не попадался брат твой, художник Стивен? Нет? А ты не думаешь, что он у своей тетушки Салли на Страсбург-террас? Не мог, что ли, залететь повыше? А-а-а скажи-ка нам, Стивен, как там дядюшка Сай? Это слезы божьи, моя родня по жене! Детки на сеновале. Пьяненький счетоводишка и его братец-трубач. Достопочтенные гондольеры. А косоглазый Уолтер папашу величает не иначе как сэром. Да, сэр. Нет, сэр. Иисус прослезился – и не диво, ей-ей.
Я дергаю простуженный колокольчик их домика с закрытыми ставнями – и жду. Они опасаются кредиторов, выглядывают из-за угла иль выступа стены.
– Это Стивен, сэр.
– Впускай его. Впускай Стивена.
Отодвигают засов, Уолтер меня приветствует:
– А мы тебя за кого-то приняли.
На обширной постели дядюшка Ричи, о подушках и одеяле, простирает дюжее предплечье над холмами колен. Чистогруд. Омыл верхний пай.
– День добрый, племянничек.
Откладывает дощечку, на которой составляет счета своих издержек, для глаз мистера Недотеппи и мистера Тристрама Тэнди, сочиняет иски и соглашения, пишет повестки Duces Tecum. Над лысиной, в рамке мореного дуба, «Requiescat» Уайльда. Обманчивый свист его заставляет Уолтера вернуться.
– Да, сэр?
– Бражки Ричи и Стивену, скажи матери. Она где?
– Купает Крисси, сэр.
Та любит с папочкой поваляться. Папочкина крошка-резвушка.
– Нет, дядя Ричи…
– Зови просто Ричи. К чертям сельтерскую. От нее тупеешь. Вуиски!
– Нет, дядя Ричи, правда…
– Да садись, черт дери, не то я сам тебя с ног сшибу.
Уолтер тщетно косит глазами в поисках стула.
– Ему не на что сесть, сэр.
– Ему некуда свою опустить, болван. Тащи сюда чиппендейловское кресло. Хочешь перекусить? И брось тут свои ужимки. Поджарить ломоть сала с селедкой? Точно нет? Тем лучше. В доме шаром покати, одни пилюли от поясницы.
All’erta!
Насвистывает из aria di sortita Феррандо. Грандиознейший номер, Стивен, во всей опере. Слушай.
Вновь раздается его звучный свист с мелодичными переходами, шумно вырывается воздух, могучие кулаки отбивают такт по ватным коленям.
Этот ветер мягче.
Распад в домах: у меня, у него, у всех. В Клонгоузе ты сочинял дворянским сынкам, что у тебя один дядя судья, а другой – генерал. Оставь их, Стивен. Не здесь красота. И не в стоячем болоте библиотеки Марша, где ты читал пожелтевшие пророчества аббата Иоахима. Для кого? Стоглавая чернь на паперти. Возненавидевший род свой бежал от них в чащу безумия, его грива пенилась под луной, глаза сверкали, как звезды. Гуигнгнм с конскими ноздрями. Длинные лошадиные лица. Темпл, Бык Маллиган, Кемпбелл-Лис, Остроскулый. Отче аббат, неистовый настоятель, что за обида так разожгла им головы? Пафф! Descende, calve, ut ne nimium decalveris. С венчиком седовласым на главе обреченной карам вижу его себя ковыляющим вниз на солею (descende), сжимающим дароносицу, василискоглазым. Слезай, лысая башка! У рогов жертвенника хор эхом повторяет угрозу, гнусавую латынь попов-лицемеров, грузно шлепающих в своих сутанах, отонзуренных, умащенных и холощеных, тучных от тучной пшеницы.
А может быть, вот в эту минуту священник где-то рядом возносит дары. Динь-динь! А через две улицы другой запирает их в дарохранительницу. Дон-дон! А третий в часовне Богородицы заправляется всем причастием в одиночку. Динь-динь! Вниз, вверх, вперед, назад. Досточтимый Оккам думал об этом, непобедимый доктор. Английским хмурым утром чертячья ипостась щекотала ему мозги. Когда он опускал свою гостию и становился на колени он слышал как второй звонок его колокольчика сливается с первым звонком в трансепте (он поднимает свой), а поднимаясь, слышал (теперь я поднимаю) как оба колокольчика (он становится на колени) звенят дифтонгом.
Кузен Стивен, вам никогда не бывать святым. Остров святых. Ведь ты был прямо по уши в святости, а? Молился Пресвятой Деве, чтобы нос был не такой красный. Молился дьяволу на Серпентайн-авеню, чтобы дородная вдова впереди еще повыше задрала бы юбки из-за луж. О si, certo! Продай за это душу, продай, за крашеные тряпки, подоткнутые бабенкой. И еще мне порасскажи, еще! На верхней площадке трамвая в Хоуте один вопил в дождь: голые бабы! Что скажешь про это, а?
Про что про это? А для чего еще их выдумали?
А не набирал что ни вечер по семи книг, прочесть из каждой по две страницы? Я был молод. Раскланивался сам с собой в зеркале, пресерьезно выходил на аплодисменты, поразительное лицо. Ура отпетому идиоту! Урря! Никто не видел – никому не рассказывай. Собирался написать книги, озаглавив их буквами. А вы прочли его «Ф»? Конечно, но я предпочитаю «К». А как изумительна «У». О да, «У»! Припомни свои эпифании на зеленых овальных листах, глубочайше глубокие, копии разослать в случае твоей кончины во все великие библиотеки, включая Александрийскую. Кому-то предстояло их там прочесть через тысячи лет, через махаманвантару. Как Пико делла Мирандола. Ага, совсем как кит. Читая одну за одной страницы одинокого однодума кого уж нет не одну сотню лет будто сливаешься заодно с тем одиночкой который как-то однажды…
Зернистый песок исчез у него из-под ног. Ботинки снова ступали по склизким скрипучим стеблям, острым раковинам, визгливой гальке, что по несметной гальке шелестит, по дереву, источенному червями, обломкам Армады. Топкие окошки песка коварно подстерегали его подошвы, смердя сточными водами. Он осторожно обходил их. Пивная бутылка торчала по пояс в вязком песочном тесте. Часовой: остров смертельной жажды. Поломанные обручи у самой воды, на песке хитрая путаница почернелых сетей, подальше задние двери с каракулями мелом и выше по берегу веревка с двумя распятыми на ней рубахами. Рингсенд: вигвамы бронзовых шкиперов и рулевых. Раковины людей.
Он остановился. Прошел уже поворот к тете Сэре. Так что, не иду туда? Похоже, нет. Кругом ни души. Он повернул на северо-восток и через более твердую полосу песка направился в сторону Голубятни.
– Qui vous a mis dans cette fichue position?
– C’est le pigeon, Joseph.
Патрис, отпущенный на побывку, лакал теплое молоко со мной в баре Макмагона. Сын дикого гуся, Кевина Игена Парижского. Отец мой был птицей, он лакал lait chaud розовым молодым языком, пухлая мордочка, как у кролика. Лакай, lapin. Надеется выиграть в gros lots. О женской природе он читал у Мишле. Но он мне должен прислать «La Vie de Jésus» мсье Лео Таксиля. Одолжил какому-то другу. – C’est tordant, vous savez. Moi, je suis socialiste. Je ne crois pas en l’existence de Dieu. Faut pas le dire à mon père.
– Il croit?
– Mon père, oui.
Schluss. Лакает.
Моя шляпа в стиле Латинского квартала. Клянусь Богом, мы же должны держаться в образе. Желаю бордовые перчатки. А ты ведь учился, верно? Чему только, ради всех чертей? Ну как же: эфхабе. Физика-химия-биология. А-а. Съедал на грош mou en civet, мяса из котлов фараоновых, втиснувшись между рыгающими извозчиками. Скажи этак непринужденно: когда я был в Париже, знаете, Буль-Миш, я там имел привычку. Да, привычку носить с собой старые билеты, чтобы представить алиби, если обвинят в каком-нибудь убийстве. Правосудие. В ночь на семнадцатое февраля 1904 года арестованного видели двое свидетелей. Это сделал другой: другой я. Шляпа, галстук, пальто, нос. Lui, c’est moi. Похоже, что ты не скучал там.
Гордо вышагивая. А чьей походке ты пробовал подражать? Забыл: кто-то там обездоленный. В руках перевод от матери, восемь шиллингов, и перед самым носом швейцар захлопывает дверь почты. Зубы ломит от голода. Encore deux minutes. Посмотрите на часы. Мне нужно получить. Fermé. Наемный пес! Ахнуть в него из дробовика, разнести в кровавые клочья, по всем стенкам человечьи клочья медные пуговицы. Клочья фррр фррр щелк – все на место. Не ушиблись? О нет, все в порядке. Рукопожатие. Вы поняли, о чем я? О, все в порядке. Пожапожатие. О, все в полном порядке.
Ты собирался творить чудеса, да? В Европу миссионером, по стопам пламенного Колумбана. На небе Фиакр и Скот даже из кружек пролили, громопокатываясь с латиносмеху на своих табуретках: Euge! Euge! Нарочно коверкая английский, сам тащил чемодан, носильщик три пенса, по скользкому причалу в Ньюхейвене. Comment? Привез знатные трофеи: «Le Tutu», пять истрепанных номеров «Pantalon Blanc et Culotte Rouge», голубая французская телеграмма, показать как курьез:
– Нать умирает возвращайся отец.
Тетка считает, ты убил свою мать. Поэтому запретила бы.
Ноги его зашагали в неожиданном гордом ритме по песчаным ложбинкам, вдоль южной стены из валунов. Он гордо глядел на них, мамонтовы черепа тесаного камня. Золотистый свет на море, на валунах, на песке. Там солнце, гибкие деревца, лимонные домики.
Париж просыпается, поеживаясь, резкий свет солнца заливает его лимонные улицы. Дух теплых хлебцев и лягушино-зеленого абсента, фимиамы парижской заутрени, ласкают воздух. Проказник встает с постели жены любовника своей жены, хлопочет хозяйка в платочке, в руках у ней – блюдце с уксусной кислотой. У Родо Ивонна и Мадлен подновляют свои помятые прелести, сокрушая золотыми зубами chaussons, рты у них желтые от pus из flan breton. Мелькают мимо лица парижских Парисов, их угодников, которым на славу угодили, завитых конкистадоров.
Полуденная дрема. В пальцах, черных от типографской краски, Кевин Иген катает начиненные порохом сигареты, потягивая зеленое зелье, как Патрис белое. Кругом нас обжоры яро запихивают себе в глотки наперченные бобы. Un demi setier! Струя кофейного пара над блестящим котлом. По его знаку она подходит ко мне. Il est irlandais. Hollandais? Non fromage. Deux irlandais, nous, Irlande, vous savez? Ah, oui! Она решила, вы хотите голландского сыру. На послетрапезное, слышали это слово? Послетрапезное. Я знал одного малого в Барселоне, такой, со странностями, он всегда это называл послетрапезным. Ну что же, slainte! Над мраморными столиками смешенье хмельных дыханий, урчащих рыл. Его дыхание нависает над нашими тарелками в пятнах соуса, меж губ зеленые следы абсента. Об Ирландии, о Далькассиях, о надеждах и заговорах, теперь об Артуре Гриффите. Чтобы и я с ним впрягся в одно ярмо, наши преступления – наше общее дело. Вы сын своего отца. Я узнаю голос. Испанские кисти на его бумазейной рубахе в кроваво-красных цветах трепещут от его тайн. Мсье Дрюмон, знаменитый журналист, знаете, как он назвал королеву Викторию? Старая желтозубая ведьма. Vieille ogresse с dents jaunes. Мод Гонн, изумительная красавица, «La Patrie», мсье Мильвуа, Феликс Фор, знаете, как он умер? Эти сластолюбцы. Фрекен, bonne à tout faire, растирает мужскую наготу в бане в Упсале. Moi faire, говорит. Tous les messieurs. Только не этому мсье, я говорю. Этакий распутный обычай. Баня дело интимное. Я даже брату бы не позволил, родному брату, это сущий разврат. Зеленые глаза, вижу вас. Чую абсент. Развратные люди.
Голубым смертоносным огоньком разгорается фитиль меж ладоней. Рыхлые волокна табака занимаются; пламя и едкий дым освещают наш угол. Грубые скулы под его фуражкой ольстерского боевика. Как бежал главный центр, подлинная история. Переоделся новобрачной, представляете, фата, флердоранж, и укатил по дороге на Малахайд. Именно так, клянусь. Об ушедших вождях, о тех, кого предали, о безумных побегах. Переодетые, пойманные, сгинувшие – их больше нет.
Отвергнутый влюбленный. В ту пору, надо вам сказать, я был этакий деревенский здоровяк, как-нибудь покажу карточку. Клянусь, был таким. Влюбленный, ради ее любви он прокрался с полковником Ричардом Берком, таном своего клана, к стенам Клеркенуэллской тюрьмы и сквозь туман видел, припав к земле, как пламя мщения швырнуло их вверх. Обращаются в осколки стекло и камень. В веселом городке Париже скрывается он, Иген Парижский, и никто не разыскивает его, кроме меня. Его дневные пристанища, обшарпанная печатня, его три трактирчика да логово на Монмартре, где коротает он недолгие ночные часы, на рю де ла Гутт-д’Ор, дорогое убранство по стенам – засиженные мухами лица ушедших. Без любви, без родины, без жены. А она себе поживает тепло и мило без своего изгнанника, эта мадам на рю Жи-ле-Кер, с канарейкой и двумя франтами-постояльцами. Щечки с пушком, полосатая юбка, игривость, как у молоденькой. Отвергнутый и неунывающий. Скажите Пэту, вы меня видели, хорошо? Я как-то пробовал приискать ему, бедняге, работу. Mon fils, солдат Франции. Я его учил петь «Ребята в Килкенни лихие удальцы». Знаете эту старую песню? Я научил ей Патриса. Старый Килкенни: святой Канис, замок Стронгбоу на Норе. А мотив такой: э-эй. За руку Нэппер Тэнди взял меня.
Слабая высохшая рука на моей руке. Они забыли Кевина Игена, но не он их. Воспомню тебя, о Сионе.
Он подошел ближе к морю, сырой песок облепил подошвы. Свежий ветер приветно пахнул в лицо, буйный ветер, напоенный лучами, бередящий, как струны, буйные нервы. Я что, собрался идти до самого маяка? Он резко остановился, ноги тут же начали вязнуть. Назад.
Повернув, он оглядел берег к югу, ноги снова начали вязнуть, в новых лунках. Вон башня, холодная сводчатая комната ждет. Снопы света из окон безостановочно движутся, медленно и безостановочно, как вязнут ноги в песке, ползут к сумеркам по полу-циферблату. Синие сумерки, опускается ночь, синяя глубокая ночь. В сводчатой темноте они ждут, их отодвинутые стулья и мой чемодан-обелиск, вокруг стола с оставленными тарелками. Кому убирать? Ключ у него. Я не буду спать там сегодня ночью. Безмолвная башня с закрытой дверью погребла в себе их слепые тела, сахиба – охотника на пантер и его пойнтера. Зов безответен. Он вытащил увязшие ноги и двинулся назад вдоль дамбы из валунов. Все берите, владейте всем. Со мной шагает душа моя, форма форм. Так в лунные стражи торю я тропу над черно-серебристыми скалами, слыша искусительный поток Эльсинора.
Поток догоняет меня. Могу поглядеть отсюда, как он прокатит. Потом обратно дорогой на Пулбег, от воды подальше. Он пробрался по скользким водорослям, через осоку, и уселся на скальный стул, пристроив тросточку в расселину.
Вздувшийся труп собаки валялся на слое тины. Перед ним лодочный планшир, потонувший в песке. Un coche ensablé, назвал Луи Вейо прозу Готье. Эти грузные дюны – язык, принесенный сюда приливом и ветром. А там каменные пирамиды мертвых строителей, садки злобных крыс. Там прятать золото. Попробуй. У тебя есть. Пески и камни. Обремененные прошлым. Игрушки сэра Лута. Берегись, как бы не получить по уху. Я свирепый великан, тут валуны валяю и по костям гуляю. Фу-фу-фу. Чую, ирландским духом пахнет.
Точка, увеличиваясь на глазах, неслась на него по песчаному пространству: живая собака. О Боже, она набросится на меня? Уважай ее свободу. Ты не будешь ничьим господином и ничьим рабом. У меня палка. Сиди спокойно. Подальше наискось бредут к берегу из пенистого прилива чьи-то фигуры, две. Две Марии. Надежно ее укрыли в тростниках. Прятки. Я тебя вижу. Нет, собаку. Бежит обратно к ним. Кто?
Ладьи лохланнов причаливали тут к берегу в поисках добычи, кроваво-клювые носы их низко скользили над расплавленным оловом прибоя. Датчане-викинги, бармы томагавков блестят на груди у них, как храбрый Мэйлахи носил на шее обруч золотой. Стая кашалотов прибилась к берегу в палящий полдень, пуская фонтаны, барахтаясь на мели. И тут, из голодного города за частоколом – орда карликов в кургузых полукафтаньях, мой народ, с мясницкими ножами, бегут, карабкаются, кромсают куски зеленого, ворванью пропахлого мяса. Голод, чума и бойни. Их кровь в моих жилах, их похоти бурлят во мне. Я шел среди них по замерзшей Лиффи, другой я, подменыш, среди плюющихся смолой костров. Не говорил ни с кем; и со мной никто.
Собачий лай приближался, смолкал, уносился прочь. Собака моего врага. Я стоял неподвижно, безмолвный, бледный, затравленный. Terribilia meditans. Лимонный камзол, слуга фортуны, посмеивался над моим страхом. И это тебя манит, собачий лай их аплодисментов? Самозванцы: прожить их жизни. Брат Брюса, Томас Фицджеральд, шелковый рыцарь, Перкин Уорбек, лжеотпрыск Йорка, в бело-розовых шелковых штанах, однодневное диво, и Лэмберт Симнел, со свитой карлов и маркитантов, венчаный поваренок. Все королевичи. Рай для самозванцев и тогда и теперь. Он спасал утопающих, а ты боишься визга дворняги. Но придворные, что насмехались над Гвидо в Ор-сан-Микеле, были у себя в доме. В доме… На что нам твоя средневековая заумь! Сделал бы ты, как он? Рядом была бы лодка, спасательный буй. Natürlich, для тебя специально. Сделал бы или нет? Человек, утонувший девять дней назад возле Мэйденрок. Сейчас ждут всплытия. Скажи-ка начистоту. Я хотел бы. Я попытался бы. Я слабовато плаваю. Вода холодная, мягкая. Когда я окунул голову в таз, в Клонгоузе. Ничего не вижу! Кто там за мной? Скорей обратно, скорей! Видишь, как быстро прилив прибывает со всех сторон, как быстро заполняет все ложбинки песков, цвета шелухи от бобов какао? Если бы под ногами была земля. И все равно хочу, чтобы его жизнь была его, а моя моей. Утопленник. Его человечьи глаза кричат мне из ужаса его смерти. Я… Вместе с ним на дно… Я не мог ее спасти. Вода – горькая смерть – сгинул.
Женщина и мужчина. Вижу ее юбчонки. Похоже, подоткнуты.
Их пес суетился возле осыпающейся грядки песка, рыскал вокруг, обнюхивая со всех сторон. Что-то ищет, что потерял в прошлой жизни. Внезапно он помчался, как заяц, уши назад, погнавшись за тенью низко летящей чайки. Резкий свист мужчины ударил в его вислые ухи. Он повернул и помчался назад, приблизился, мелькающие лапы перешли на рысцу. В червленом поле олень бегущий, цвета природного, без рогов. У кружевной кромки прилива остановился, упершись передними копытами, насторожив уши к морю. Задравши морду, облаял шумные волны, стада моржей. Они подползали к его ногам, закручиваясь кольцами, вспенивая, каждая девятая, белый гребень, разбиваясь, расплескиваясь, издалека, из дальнего далека, волны и волны.
Сборщики моллюсков. Они зашли в воду, нагнувшись, окунули свои мешки, вытащили, вышли обратно. Пес с визгом подбежал к ним, вскинулся на них лапами, потом опустил лапы на песок, потом снова вскинул их на хозяев с немою медвежеватою лаской. Оставленный без взаимности, он потрусил следом за ними на сухое, и тряпка волчьего языка краснопыхтела из пасти. Пятнистое его тело трусцой выдвинулось вперед, потом вдруг припустило телячьим галопом. Собачий труп лежал у него на пути. Он остановился, обнюхал, обошел кругом, братец, обнюхал тщательней, сделал еще один обход, быстро, по-собачьи, обнюхивая всю грязную шкуру дохлого пса. Песий череп, песий нюх, глаза в землю, движется к единой великой цели. Эх, пес-бедолага! Здесь лежит тело пса-бедолаги.
– Падаль! Живо оттуда, псина!
Присмирев от окрика, он вернулся, и несильный пинок босой хозяйской ноги швырнул его, сжавшегося на лету, за грядку песка. Подался обратно, описав вороватую кривую. Не видит меня. У края дамбы задержался, посуетился, обнюхал валун и помочился на него, задрав заднюю ногу. Потрусил вперед, задрал снова заднюю ногу и быстро, коротко помочился на необнюханный валун. Простые радости бедняков. Потом задние лапы стали раскидывать песок; потом передние принялись грести, рыть. Что-то он тут хоронит, бабку свою. Он вгрызался в песок, разгребая, раскидывая; остановился, прислушался, снова принялся рыть яростными когтями, но вскоре перестал, леопард, пантера, зачатый в прелюбодействе, пожирающий мертвых.
После того как он меня разбудил этой ночью, тот же самый сон или? Постой. Открытая дверь. Квартал проституток. Припомни. Гарун-аль-Рашид. Ага, постепенькаю. Тот человек вел меня и говорил что-то. Я не боялся. У него была дыня, он ее поднес мне к лицу. Улыбался; сливками пахнул плод. Таков обычай, сказал он. Входи. Красный ковер расстелен. Увидишь кто.
Взвалив на плечи мешки, тащились они, краснокожие египтяне. Цыгане. Его посинелые ноги в подвернутых штанах шлепали по сырому липучему песку, темно-кирпичный шарф охлестнул небритую шею. Женской походкой она семенит за ним: разбойник и его девка. Добыча их болтается у нее за спиной. Босые ноги ее облеплены песком, осколками ракушек, волосы распушились вокруг обветренного лица. За своим господином его сподручница – в град столичный. Когда ночь скроет изъяны тела, она зазывает, закутанная в темную шаль, из подворотни, где гадят псы. Дружок ее угощает двух королевских стрелков у О’Локлина на Блэкпиттсе. А подружка, это по их блатной музыке маруха, потому что «Эх, фартовая маруха». Белизна дьяволицы под ее вонючими тряпками. В ту ночь на Фамболли-лейн: смердящая сыромятня.
Безотрадное услаждение называет это пузатый Аквинат, frate porcospino. Адам непадший покрывал и не ведал похоти. Пускай распевает: Маркоташки-голубки. Язык ничуть не хуже, чем у него. Речь монахов, четки бормочут у поясов; блатная речь, литое золото брякает в карманах.
Проходят мимо.
Покосились на мою Гамлетову шляпу. Если бы я тут вдруг оказался голым? Я не гол. Через пески всего мира, на запад, к закатным землям их путь, за ними пламенный меч солнца. Она влачит, транспортирует, шлеппит, тащит, трашинит бремя свое. Прилив по пятам за ней, влекомый луной на запад. Приливы с мириадами островов у нее внутри, кровь, не моя, ойнопа понтон, винноцветное море. Се раба лунная. Во сне влажный знак будит ее в урочный час, восстать побуждая с ложа. Брачное ложе, детское ложе, ложе смерти в призрачном свете свечей. Omnis caro ad te veniet. Грядет он, бледнолицый вампир, сверкают глаза сквозь бурю, паруса, крылья нетопыря, кровавят море, уста к ее лобзающим устам.
Так. Пришпилим-ка этого молодца, а? Где грифель мой. Уста ее в лобзанье. Нет. Надо, чтоб были двое. И склей их вместе. Уста к ее лобзающим устам.
Его губы ловили и лобзали бесплотные губы воздуха: уста к тому, чем породила. Иила, лоно всех могила. Уста округлились, но выпускали одно дыхание, бессловесно: ооиииаа: рев рушащихся водопадом планет, шарообразных, раскаленных, ревущих: прочь-прроочь-прроочь-прроочь. Бумаги мне. Деньги, разрази их. Письмо старины Дизи. Вот. Благодарю за предоставленную возможность оторвать свободный клочок. Повернувшись к солнцу спиной и низко склонившись к каменному столу, он принялся строчить слова. Второй раз забываю взять чистые бланки в библиотеке.
Тень его лежала на скале, над которою он склонился, оканчиваясь. А почему не бесконечна, не до самой дальней звезды? Они темны там, за пределами света, тьма в свете светит, дельта Кассиопеи, миры. Мое «я» сидит здесь с ясеневым жезлом жреца, в заемных сандалиях, днем возле свинцово-серого моря, незримо, в лиловой ночи движется под эгидою загадочных звезд. Я отбрасываю от себя эту оконеченную тень, неотменимый антропоконтур, призываю ее обратно. Будь бесконечна, была бы она моей, формой моей формы? Кто здесь видит меня? Кто прочтет где-нибудь и когда-нибудь слова, что я написал? Значки по белому полю. Кто-нибудь и кому-нибудь твоим самым сладкозвучным голосом. Добрый епископ Клойнский извлек храмовую завесу из своей пасторской шляпы: завесу пространства с цветными эмблемами, вышитыми по ее полю. Постой, подумай. Цветные на плоском: да, именно. Я вижу плоское, а мыслю расстояние, вблизи, вдали, а вижу плоское, на восток, сзади. Ага, понятно! Внезапно падает и застывает в стереоскопе. Щелк – и весь фокус. Вам кажутся темными мои слова. Тьма в наших душах, этого вам не кажется? Сладкозвучней. Наши души, стыдом язвимые за наши грехи, еще теснее льнут к нам, как женщина, льнущая к возлюбленному, теснее, еще теснее.
Она доверяется мне, у нее нежная рука, глаза с длинными ресницами. Куда только, шут меня возьми, я тащу ее за завесу? В неотменимую модальность неотменимой зримости. Она, она, она. Что она? Дева у витрины Ходжеса Фиггиса в понедельник, искала одну из тех алфавитных книг, что ты собирался написать. Ты в нее так и впился взглядом. Запястье продето в плетеную петлю зонтика. Живет в Лисон-парке, на чувствах и розовых лепестках, литературная дама. Рассказывай, Стиви: просто уличная. Клянусь, она носит эти уродские пояса с резинками и желтые чулки, штопанные толстой шерстью. Поговори про яблочные пирожки, piuttosto. И где твой разум?
Коснись меня. Мягкий взгляд. Мягкая мягкая мягкая рука. Я одинок здесь. О, коснись меня скорее, сейчас. Что это за слово, которое знают все? Я здесь один, я тих. Я печален. Коснись же, коснись меня.
Он растянулся навзничь на острых скалах, засунув в карман карандаш и исписанный клочок, надвинув на глаза шляпу. Это в точности жест Кевина Игена, когда он устраивается вздремнуть, посубботствовать. Et vidit Deus. Et erant valde bona. Алло! Бонжур, добро пожаловать, рады вам, как майским цветам. Под ее укрытием сквозь павлиньих подрагиванье ресниц он глядел на южнеющее солнце. Тут как в раскаленной печи. Час Пана, полуденный отдых фавна. Средь соконалитых змеерастений, млекоточивых плодов, где широко раскинулись листья на бронзовоцветных водах. Боль далеко.
Взор его поскорбел над тупоносыми башмаками, быка обносками nebeneinander. Он сосчитал вмятины на покоробленной коже, в которой удобно гнездилась прежде нога другого. Нога, что мерно пристукивала по земле, неприятная мне нога. Ты был, однако, в восторге, когда башмачок Эстер Освальт подошел тебе, знакомая девица в Париже. Tiens, quel petit pied! Верный друг, братская душа: любовь Уайльда, та, что назвать себя не смеет. Теперь он бросит меня. А чья вина? Каков я есть. Каков я есть. Все или ничего.
Длинными упругими петлями струился поток из озера Кок, зелено-золотистым заполняя песчаные лагуны, набирая силу, струясь. Этак тросточка моя уплывет. Подожду. Нет, минует, ударяясь в низкие скалы, завиваясь в воронки, минуя. Давай лучше побыстрей с этим делом. Слушай: четырехсловная речь волн – сиссс суссс пыссс фес. Ярое дыхание вод средь морских змеев, вздыбленных коней, скал. Они плещутся в чашах скал: плеск – плям – плен: пленены в бочках. И, иссякая, речь их стихает. Они льются, журча, широко разливаясь, неся гроздья пены, распускающиеся цветы.
Он видел, как под закипающим приливом извиваются водоросли, истомленно поднимая и колебля слабо противящиеся руки, задирая подолы, в шепчущих струях колебля и простирая вверх робкие серебристые ростки. День за днем, ночь за ночью, захлестнуты – вздымаются – опадают вновь. Боже, они устали; и под шепот струй к ним, вздыхают. Святому Амвросию внятны были эти вздохи волн и ветвей, ждущих, жаждущих исполнения своих сроков: diebus ас noctibus iniurias patiens ingemiscit. Без цели собраны, без пользы отпущены: склонятся вперед – вернутся назад: ткацкий станок луны. Как они, истомленная, под взглядами любовников, сластолюбивых мужчин, нагая женщина, сияющая в своих чертогах, влачит она бремя вод.
Там будет саженей пять. Отец твой спит на дне морском, над ним саженей пять. В час, он сказал. Найден утопленник. Полный прилив на Дублинской отмели. Гонит перед собой наносы гальки, случайные ракушки, широкие стаи рыбы. Труп, выбеленный солью, всплывает из отката, покачивается к берегу, едет-едет сам-сам, самец. Вон он. Цепляй живо. Хотя над ним волны сомкнулись очертанья. Готово, наш. Полегче теперь.
Мешок трупных газов, сочащийся зловонной жижей. Стайка мальков, отъевшихся на рыхлом лакомстве, стрелой вылетает через щели его застегнутой ширинки. Бог стал человеком человек рыбой рыба гагарой гагара перинной горой. Дыханьями мертвых дышу я живой, ступаю по праху мертвых, пожираю мочой пропитанную требуху от всех мертвых. Мешком переваленный через борт, он испускает смрад своей зеленой могилы, лепрозная дыра носа храпит на солнце.
Морской сюрприз, соль высинила карие глаза. Морская смерть, мягчайшая из всех, ведомых человеку. Древний отец Океан. Парижский приз – остерегайтесь подделки. Рекомендуем проверить. Мы получили огромное удовольствие.
Ступай. Пить хочется. Собираются облака. А тучи где-нибудь есть, нет? Гроза. Сверкая, он низвергается, гордая молния разума, Lucifer, dico, qui nescit occasum. Нет. В шляпе, с посохом бреду, башмаки стучат. Его-мои башмаки. Куда? В закатные земли, в страну вечернюю. Вечер обретет себя.
Он взял тросточку за эфес, сделал ею легкий выпад, еще в нерешительности. Да. Вечер обретет себя во мне – без меня. Все дни приходят к концу. Кстати, на той неделе, когда там во вторник самый длинный день. Несет нам радость новый год, о мать, тарам-пам-пам. Благородному поэту Лаун-Теннисону. Già. Старой желтозубой ведьме. И мсье Дрюмону, благородному журналисту. Già. А зубы у меня совсем плохие. Почему, интересно? Пощупай. Этот тоже шатается. Скорлупки. Надо бы, наверно, к зубному на эти деньги, а? И тот. Беззубый Клинк, сверхчеловек. Почему это, интересно, или, может, тут что-то кроется?
Платок мой. Он забрал. Помню. А я назад не забрал?
Рука тщетно пошарила в карманах. Нет, не забрал. Лучше другой купить.
Он аккуратно положил сухую козявку, которую уколупнул в носу, на выступ скалы. Желающие пусть смотрят.
Позади. Кажется, кто-то есть.
Он обернулся через плечо, взирая назад. Пронося в воздухе высокие перекладины трех мачт, с парусами, убранными по трем крестам салингов, домой, против течения, безмолвно скользя, безмолвный корабль.