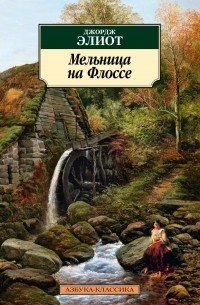Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава девятая. Визит в Гарум-Ферз
Пока ее отца занимали возможные невзгоды Мэгги в будущем, сама она пожинала горькие плоды настоящего. Детство не терзается дурными предчувствиями, но при этом оно наслаждается отсутствием воспоминаний о пережитых горестях.
Дело в том, что день начался для Мэгги крайне неудачно. Удовольствие лицезреть Люси и предвкушение послеобеденного визита в Гарум-Ферз, где она услышит музыкальную шкатулку дяди Пуллета, уже в одиннадцать часов утра омрачило появление парикмахера из Сент-Оггза, который в самых суровых выражениях отозвался о состоянии ее волос, приподнимая один неровно обкромсанный локон за другим и приговаривая: «Нет, вы только посмотрите! Ай-ай-ай!» Он цокал языком, выражая отвращение и жалость, что Мэгги восприняла как жесточайшее общественное неодобрение. Мистер Рэппит, парикмахер, набриолиненные волосы которого волной вздымались надо лбом, словно воображаемая пирамида пламени над похоронной урной, в этот момент представлялся ей самым большим и важным из ее современников, улицу которого в Сент-Оггзе она отныне постарается обходить десятой дорогой до конца своих дней.
Более того, поскольку подготовка к визиту в семействе Додсонов всегда считалась делом серьезным, Марте пришлось убирать комнату миссис Талливер на час раньше обыкновенного, чтобы выбор лучших нарядов, разложенных на постели, не пришлось откладывать до последнего момента, как иногда случается в домах с менее строгими правилами, в которых никогда не скатывают завязки шляп и капоров, не заворачивают их в серебряную бумагу; где убеждение в том, что воскресную одежду можно взять и запросто вынуть из шкафа, никого не приводит в ужас. Поэтому в двенадцать часов дня миссис Талливер уже надела выходной костюм с защитной накидкой из коричневого голландского полотна, как если бы она являла собой предмет мебели с атласной обивкой, которому грозила опасность быть засиженным мухами. Мэгги хмурилась и передергивала плечами, словно стараясь вырваться из объятий кусачей шемизетки, не обращая внимания на увещевания матери: «Прекрати, Мэгги, дорогая! Не хмурься!», а щеки Тома пылали жарким румянцем, особенно заметным на фоне его лучшего синего костюма, необходимость надеть который он воспринял с подобающим спокойствием, добившись, после некоторых пререканий, самой важной уступки, каковая только и интересовала его в собственном туалете: он перенес содержимое карманов своего каждодневного наряда в тот, что красовался на нем сейчас.
Что же до Люси, то она оставалась такой же симпатичной и опрятной, как и вчера; с ее одеждой не случалось трагических инцидентов, она никогда не чувствовала себя в ней неловко и поэтому с некоторой изумленной жалостью посматривала на Мэгги, которая ежилась и дулась под злосчастной шемизеткой.
А Мэгги уже давно сорвала бы сей предмет одежды, если бы ее не останавливало воспоминание о недавнем унижении с волосами; словом, она ограничилась сердитым сопением и почесыванием, с раздражением глядя на карточные домики, которые им было разрешено строить до обеда в качестве единственной подходящей забавы для мальчиков и девочек в их лучших нарядах. Том умел строить прекрасные пирамиды, а вот у Мэгги перекрыть крышу не получалось никогда. Для нее это было обычным делом, отчего Том пришел к выводу, что девчонки не способны ничего довести до конца. Но оказалось, что Люси необыкновенно талантлива в строительстве; она обращалась с картами столь легко и непринужденно, что Том снизошел до признания, что ее домики выглядят ничуть не хуже его собственных, каковое подкрепилось еще и тем, что она попросила его обучить ее этому искусству. Мэгги тоже не прочь была восхититься домиками Люси, ради чего даже была готова отказаться от собственных неудачных попыток соорудить что-либо, если бы шемизетка не причиняла ей сильного неудобства и если бы Том не заливался обидным смехом, глядя, как рушатся ее домики, и не называл бы ее глупышкой.
– Не смейся надо мной, Том! – сердито выпалила она. – И вовсе я не глупышка. Я знаю много чего такого, что тебе неведомо.
– Ну, конечно, мисс Злючка! Я точно не умею дуться так, как ты, или корчить рожи. Кстати, Люси так не делает. И поэтому Люси нравится мне больше тебя. Жаль, что она не моя сестра.
– С твоей стороны дурно и гадко жалеть об этом, – заявила Мэгги, поспешно поднимаясь с пола и при этом мимоходом разрушив прелестную пагоду Тома. Вышло у нее это нечаянно, но косвенные улики были против нее, и Том даже побледнел от злости, но ничего не сказал; он, наверное, даже ударил бы ее, если бы не считал, что бить девчонок – это подлость и трусость, а Том Талливер для себя уже решил, что никогда не совершит ничего подлого или трусливого.
Мэгги замерла в унынии и страхе, а Том молча поднялся на ноги и удалился, бледный и взбешенный, от обломков своей разрушенной пагоды. Люси безмолвно взирала на происходящее, словно котенок, на миг оторвавшийся от миски с молоком.
– Ох, Том, – наконец заговорила Мэгги, неуверенно шагнув к брату, – я не хотела ломать ее, честное слово.
Том сделал вид, будто не расслышал, достал из кармана две или три горошины и щелчком большого пальца выстрелил ими в окно, поначалу просто так, безо всякого умысла, но потом стал целиться в дряхлую навозную муху, которая выставила свое слабоумие на весеннее солнышко, явно нарушив при этом планы природы, которая и воспользовалась Томом и горохом для быстрого уничтожения этого слабого индивида.
В общем, утро Мэгги было испорчено, и неизменная холодность Тома, которую он демонстрировал во время прогулки, отравила ей радость от солнечного света и свежего воздуха. Он позвал Люси, чтобы показать ей недостроенное птичье гнездо, даже не взглянув на Мэгги, а потом сорвал несколько ивовых кисточек для себя и Люси, не удосужившись предложить хотя бы одну из них Мэгги. Люси даже спросила: «Мэгги, хочешь себе такую же?», но Том остался глух к ее словам.
Однако вид павлина, очень вовремя решившего распушить хвост на заборе вокруг гумна, едва они подошли к Гарум-Ферз, ненадолго сумел отвлечь ее от собственных горестей. А ведь это было только самое первое из чудесных зрелищ, которые смог предложить ей Гарум-Ферз. Скотный двор буквально кишел живностью: карликовые куры-бентамки, чубарые и с хохолками; несушки из Фрисландии с перьями, торчащими в обратную сторону; цесарки, летающие, кудахчущие и роняющие повсюду свои пятнистые перышки; зобастые голуби и ручная сорока; а еще коза и совершенно замечательная пятнистая собака, наполовину мастиф, наполовину бульдог, огромная, словно лев. Со всех сторон их окружали белые рейки ограды и белые же воротца, блестящие флюгеры самых разных форм и размеров, садовые дорожки, вымощенные узорами из красивой гальки, – словом, Гарум-Ферз был полон невероятных диковинок; и Том рассудил, что необычный размер жаб вызван тотальной необыкновенностью всех владений дяди Пуллета, джентльмена, ставшего фермером. Жабы, платившие ренту, как правило, бывали не такими толстыми. Что же касается дома, то и он был не менее замечательным: центральная его часть была ниже боковых крыльев с парапетными башенками, а стены сверкали белым алебастром.
Дядюшка Пуллет увидел незваных гостей из окна, после чего поспешил отодвинуть засов, снять цепочку и распахнуть переднюю дверь, которая неизменно пребывала в таком укрепленном состоянии из страха перед бродягами, которые запросто могли прознать о стеклянном шкафчике с чучелами птиц в холле, вломиться в дом и унести его на голове. Вслед за ним в дверях появилась и тетушка Пуллет и, едва ее сестрица оказалась в пределах слышимости, тут же велела:
– Останови детей, ради бога! Бесси, не позволяй им подойти к крыльцу. Салли сейчас принесет старый коврик и тряпку, чтобы они могли вытереть ноги.
Половики у входной двери миссис Пуллет ни в коем случае не предназначались для вытирания ног; даже у скобы для чистки обуви имелся заместитель для исполнения столь грязной работы. Том неизменно бунтовал против подобной процедуры, полагая ее недостойной своего пола. Итак, с самого начала визит к тетке Пуллет был омрачен столь неприятным инцидентом, а ведь однажды он уже сидел у нее в гостях с тряпками, намотанными на башмаки; сей факт может послужить опровержением чересчур поспешного умозаключения, будто визит в Гарум-Ферз являлся истинным подарком для юного джентльмена, любящего животных – то есть любящего бросаться в них камнями.
Очередная неприятность подстерегала лишь его спутниц слабого пола; им предстояло подняться по навощенным ступеням дубовой лестницы, некогда застеленной очень симпатичными коврами, которые, правда, нынче покоились скатанными в спальне для гостей, так что восхождение по этим блестящим доскам могло служить – в варварские времена – неким испытанием, пройти которое, не сломав ребра, суждено было лишь обладательницам безупречных добродетелей. Миссис Глегг вечно корила Софи за необъяснимую слабость к этой полированной лестнице, но миссис Талливер сумела удержать язык за зубами и лишь мысленно возблагодарила Бога, когда они с детьми наконец оказались в безопасности на верхней площадке.
– Миссис Грей прислала мне новую шляпку, Бесси, – проникновенным тоном сообщила миссис Пуллет, глядя, как миссис Талливер поправляет свой капор.
– В самом деле, сестрица? – отозвалась миссис Талливер, изображая крайнюю заинтересованность. – Она тебе понравилась?
– Конечно, вещи мнутся, если их без конца вынимать да укладывать обратно, – сказала миссис Пуллет, доставая из кармана связку ключей и внимательно оглядывая их, – но будет очень жаль, если ты уйдешь, так и не взглянув на нее. Мало ли что может случиться.
При этих словах миссис Пуллет задумчиво покачала головой, после чего выбрала нужный ключ.
– Боюсь, это доставит тебе ненужные хлопоты, сестрица, – заметила миссис Талливер. – Но мне и впрямь хотелось бы взглянуть, какую тулью она для тебя сделала.
Миссис Пуллет с меланхолическим видом поднялась на ноги и отворила одну створку своего сверкающего полировкой гардероба, где, как вы наверняка поспешно предположили, и обреталась упомянутая новая шляпка. Ничуть не бывало! Подобное предположение могло возникнуть только у того, кто водил шапочное знакомство с семейством Додсонов. В этом гардеробе миссис Пуллет искала нечто настолько маленькое, что оно могло затеряться под стопками белья, – им оказался дверной ключик.
– Тебе придется пройти со мной в главную комнату, – изрекла миссис Пуллет.
– А дети могут составить мне компанию, сестрица? – осведомилась миссис Талливер, заметившая, что на лицах Мэгги и Люси отразилось нетерпение.
– Что ж, – задумчиво протянула миссис Пуллет, – пожалуй, будет лучше, если они пойдут с нами, иначе они начнут трогать что-нибудь, если мы оставим их одних.
И они гуськом зашагали по блестящему и очень скользкому коридору, тускло освещенному лучами, падавшими из полукруглой верхней части окна, в остальном прикрытого ставней; атмосфера и обстановка при этом выглядели торжественными. Но вот тетушка Пуллет остановилась и отперла дверь, которая открылась в нечто куда более зрелищное и торжественное, нежели коридор, – полутемную комнату, где тусклый наружный свет падал на мебель, накрытую белыми полотняными чехлами, словно погребальные останки. Все, что не было укрыто саванами, стояло ножками вверх. Люси ухватилась за край платья Мэгги, а у той учащенно забилось сердце.
Тетушка Пуллет приоткрыла ставню, после чего с меланхолической тщательностью, вполне уместной в этой полной похоронной строгости атмосфере, отперла платяной шкаф. Восхитительный аромат розовых лепестков, исходящий из гардероба, сделал процедуру изъятия серебряных листов бумаги из его недр, в чем все приняли самое деятельное участие, несказанно приятной, хотя вид извлеченной наконец шляпки изрядно разочаровал Мэгги, которая предпочла бы нечто более противоестественное. А вот миссис Талливер была поражена в самое сердце. Несколько мгновений она рассматривала головной убор в полном молчании, после чего воскликнула:
– Знаешь, сестра, я более и слова не скажу против высокой тульи!
Уступка была серьезной, и миссис Пуллет оценила ее по достоинству; она сочла, что должна сказать что-либо в ответ.
– Хочешь, чтобы я примерила ее, сестрица? – печально осведомилась она. – Я могу приоткрыть ставню еще немного.
– Хочу. Если ты не возражаешь против того, чтобы снять свой чепец, сестрица, – сказала миссис Талливер.
Миссис Пуллет сняла чепчик, обнажив коричневую атласную накладку для волос с выступающими спереди кудряшками, пользовавшуюся популярностью у зрелых и здравомыслящих дам того времени, и, водрузив шляпку на голову, медленно повернулась на месте, словно манекен в магазине изделий для декора, дабы миссис Талливер не упустила из виду ни малейшей подробности.
– Иногда мне кажется, что с левой стороны лента слишком длинная, сестрица. Что скажешь? – поинтересовалась миссис Пуллет.
Миссис Талливер честно попыталась разглядеть упомянутый недостаток и даже склонила голову к плечу.
– Думаю, лучше оставить все, как есть. Начнешь поправлять одно, сестрица, и испортишь все.
– Ты права, – согласилась миссис Пуллет, снимая шляпку и задумчиво глядя на нее.
– Как ты считаешь, сколько она возьмет с тебя за эту шляпку, сестрица? – спросила миссис Талливер, уже мысленно прикидывая, как бы соорудить хотя бы имитацию этого шедевра из того куска атласа, что имелся у нее дома.
Миссис Пуллет пожевала губами, покачала головой, а потом прошептала:
– За нее платит Пуллет. Он сказал, что у меня должна быть лучшая шляпка в гарумской церкви, и точка.
Она принялась медленно поправлять оторочку, собираясь вернуть шляпу на место в платяном шкафу, и мысли ее, такое впечатление, приняли меланхолическую окраску, потому что она покачала головой.
– Ах, – проговорила она наконец, – может так случиться, что мне не придется надевать ее дважды, сестрица. Кто знает?
– Не говори так, сестрица, – ответила миссис Талливер. – Надеюсь, что к лету ты поправишься.
– Ах! Но в семье может случиться смерть, как было вскоре после того, как у меня появилась зеленая атласная шляпка. Кузен Эббот может покинуть нас, и тогда нам придется носить по нему траур не менее полугода.
– Это было бы очень некстати, – заявила миссис Талливер, углубившись в размышления по поводу крайне несвоевременной болезни не к добру помянутого кузена. – От шляпки на второй год уже никакого удовольствия, ведь с тульями никогда не угадаешь – два лета не бывают похожими друг на друга.
– Увы, таков он, этот мир, – согласилась миссис Пуллет, возвращая шляпку в гардероб и вновь запирая его. Некоторое время она хранила молчание, подчеркивая его покачиванием головы, пока они не вышли гуськом из торжественной комнаты и не оказались вновь в ее собственной спальне. После чего, расплакавшись, она проговорила:
– Дорогая сестрица, если ты больше не увидишь эту шляпку до моей кончины, помни о том, что я показывала ее тебе сегодня.
Миссис Талливер поняла, что должна явить показное сочувствие, но она редко проливала слезы, будучи женщиной крепкого здоровья и телосложения; она при всем желании не могла рыдать столь изобильно, как ее сестрица Пуллет, и частенько страдала из-за этой своей ущербности, особенно на похоронах. От усилий выдавить слезы из глаз лицо ее исказилось мукой. Мэгги, внимательно наблюдая за происходящим, решила, что со шляпкой тетки неразрывно связана какая-то болезненная тайна, которую она никак не могла понять, очевидно, в силу молодости; она прониклась негодованием, рассудив, что сумела бы уразуметь ее, как и все прочее, если бы только ее сочли достойной доверия.
Когда они сошли вниз, дядюшка Пуллет, проявив сообразительность, предположил, что супруга демонстрировала гостье свою шляпку – что и задержало их наверху так долго. Тому же эта пауза и вовсе показалась бесконечной, поскольку он в тягостном ожидании сидел на самом краешке дивана прямо напротив дядюшки Пуллета, который наблюдал за ним лукавыми серыми глазами, время от времени именуя его не иначе как «молодой сэр».
– Итак, молодой сэр, что же вы изучаете в школе? – таков был первый и неизменный вопрос от мистера Пуллета, сразу после чего Том изрядно смущался, тер ладонями лицо и отвечал:
– Не знаю.
И вообще, разговор с дядюшкой Пуллетом наедине приводил Тома в такое смятение, что он не мог даже толком рассмотреть эстампы на стенах, мухоловки или замечательные горшки с цветами; перед глазами у него стояли лишь краги дяди. При этом нельзя было сказать, что Том трепетал перед умственным превосходством дядюшки; и действительно, он уже решил для себя, что не хочет становиться джентльменом-фермером, поскольку ему решительно не нравились тонкие ножки дядюшки Пуллета и его непроходимая глупость – он даже про себя именовал его бабой.
Мальчишеская застенчивость ни в коей мере не является свидетельством преклонения; и, пока вы неуклюже пытаетесь подбодрить юнца, наивно думая, что он ошеломлен и подавлен вашим возрастом и мудростью, ставлю десять против одного, что он в душе потешается над вами, полагая странным типом. Я могу предложить вам единственное утешение – точно так же греческие мальчишки думали об Аристотеле. А вот если вы сумели укротить норовистую лошадь, хорошенько отдубасили ломового извозчика или держите в руке пистолет – вот тогда вас сочтут персонажем, достойным всяческого поклонения и зависти. По крайней мере, в том, что именно такие мысли и чувства одолевали Тома Талливера, я совершенно уверен. В юные годы, когда он еще носил кружевную кайму под шапочкой, его часто видели заглядывающим сквозь решетку ворот: он грозил пальчиком овцам, неразборчиво бормоча что-то при этом и намереваясь вселить ужас в их потрясенные умы; то есть еще в раннем возрасте он продемонстрировал желание владычествовать над низшими животными, дикими и домашними, включая майских жуков, соседских собак и младших сестер, что во все годы было свидетельством превосходства нашей расы. К несчастью, мистер Пуллет если и ездил верхом, то лишь на низеньком пони, а мужественности был лишен начисто, полагая огнестрельное оружие опасным – еще выстрелит само, не спросив ни у кого разрешения. Поэтому у Тома имелись веские основания для того, чтобы в разговоре с закадычным приятелем назвать дядюшку Пуллета тряпкой и простофилей, замечая при этом, что он «очень богатый тип».
Единственным, что скрашивало утомительный разговор наедине с дядюшкой Пуллетом, было наличие самых разнообразных пастилок и мятных леденцов, к которым он прибегал, когда терял нить беседы, заполняя ими неловкую паузу к обоюдному удовлетворению.
– Любите мятные леденцы, молодой сэр? – Вопрос этот требовал лишь молчаливого ответа, поскольку сопровождался извлечением на свет упомянутого предмета.
Появление в комнате маленьких девочек навело дядюшку Пуллета на мысль предложить им утешение в виде сладкого печенья, запас которого он также держал под замком для собственных нужд в дождливые и холодные дни; но едва детвора успела завладеть сладостями, как тетка Пуллет пожелала, чтобы они воздержались от того, чтобы съесть их, до тех пор, пока не будут поданы подносы и тарелки, поскольку иначе крошками от этого хрустящего печенья «будет усыпан весь пол». Люси не особенно и возражала, поскольку печенье показалось ей таким красивым, что ей стало жаль его есть; но Том, решив воспользоваться представившейся возможностью, пока взрослые заняты разговором, в два приема запихнул его в рот и поспешно прожевал. Что до Мэгги, очарованной, как обычно, эстампами с образами Улисса и Навсикаи, которые дядюшка Пуллет приобрел «в качестве иллюстрации к Писанию», то она в конце концов уронила свое печенье на пол, а потом, к несчастью, еще и раздавила его ногой – что стало источником чрезмерного волнения для тетки Пуллет и унизительного позора для Мэгги, причем такого, что она даже начала опасаться, что сегодня ей не доведется услышать музыкальную шкатулку, пока, после некоторого размышления, ей не пришло в голову, что Люси, пребывавшая в фаворе, может сама попросить об этом. Она тут же передала свою просьбу шепотом Люси на ушко, и Люси, которая всегда делала то, чего от нее хотели другие, тихонько подошла к своему дяде и, покраснев до корней волос и нерешительно перебирая камушки ожерелья, попросила:
– Вы не сыграете для нас какую-нибудь мелодию, дядюшка?
Люси полагала, что табакерка издает такие чудесные мелодии лишь благодаря неким исключительным талантам, которыми обладал дядюшка Пуллет; кстати говоря, подобного мнения придерживалось большинство обитателей Гарума. Начнем с того, что мистер Пуллет попросту купил табакерку и даже знал, что ее необходимо заводить, как и знал заранее, какую именно мелодию она собирается сыграть; собственно, обладание столь уникальным «музыкальным» предметом служило доказательством того, что мистер Пуллет не был совсем уж ничтожеством, о чем можно было сделать вывод в противном случае. Но дядюшка Пуллет, когда к нему обращались с просьбой показать свои достижения, не спешил обесценивать их чересчур поспешным согласием. «Посмотрим», – обыкновенно отвечал он в таких случаях, тщательно избегая демонстрировать любые признаки уступчивости до тех пор, пока, по его мнению, для этого не наставало подходящее время. У дядюшки Пуллета имелась программа для всех больших праздников и событий; подобным образом он оберегал себя от болезненного смущения, растерянности и вызывающей искреннее недоумение свободы воли.
Пожалуй, отсрочка и неопределенность позволили Мэгги ощутить еще большее наслаждение, когда сказочная мелодия наконец заиграла; впервые она забыла о своих бедах и о том, что брат по-прежнему сердится на нее; и к тому времени, как табакерка сыграла четвертую арию из оперы Генделя «Ацис и Галатея», лицо ее осветилось ощущением подлинного счастья; она сидела неподвижно, сложив руки на коленях, отчего мать иногда думала, что и Мэгги может выглядеть хорошенькой, несмотря на смуглый цвет лица. Но стоило волшебной музыке умолкнуть, как она подскочила с места и, подбежав к Тому, обняла его за шею и воскликнула:
– Ой, Том, разве она не чудесная?
Чтобы вы не подумали, будто Том продемонстрировал отталкивающую бесчувственность, вновь рассердившись на Мэгги за эту совершенно неуместную и, по его мнению, необъяснимую ласку, я должен сообщить вам, что в это время он держал в руке бокал с вином из одуванчиков, а от неожиданного толчка пролил не меньше половины. Он проявил бы себя законченным хлюпиком, если бы не заявил в сердцах: «Смотри, что ты наделала!» – особенно когда его негодование выглядело вполне оправданным, как это бывало обыкновенно, всеобщим неодобрением поведения Мэгги.
– Почему бы тебе не посидеть спокойно для разнообразия, Мэгги? – досадливо поинтересовалась ее мать.
– Маленькие девочки не должны приходить ко мне в гости, если они ведут себя таким образом, – поддакнула тетка Пуллет.
– Вы слишком уж неуклюжи, маленькая мисс, – заключил дядюшка Пуллет.
Бедная Мэгги вновь уселась. Волшебная музыка была с позором изгнана из ее души, и ею вновь завладели семь маленьких демонов.
Миссис Талливер, предвидя, что сидение в четырех стенах обернется новыми недостойными выходками и проступками, воспользовалась первой же представившейся возможностью и предложила им, раз уж они отдохнули после долгой пешей прогулки, пойти на улицу и поиграть там; на что тетка Пуллет дала разрешение, предупредив, что сходить с мощеных дорожек в саду нельзя, а если они захотят посмотреть, как кормят домашнюю птицу, то наблюдать за этим следует с безопасного расстояния, стоя у конюшни; ограничение сие было наложено с тех пор, как Тома застали гоняющимся за павлином в иллюзорном заблуждении относительного того, что испуг заставит птицу сбросить хотя бы одно перо.
Миссис Талливер, голова которой была занята мыслями о ссоре с миссис Глегг, на некоторое время отвлеклась от тягостных дум, занявшись материнскими хлопотами и обсуждением головных уборов, но теперь, когда тема шикарной будущей шляпки отошла на задний план, а дети больше не путались под ногами, к ней вернулись прежние тревоги.
– Еще никогда у меня такого камня на душе не было, – призналась она в качестве вступления к разговору, – оттого, что сестрица Глегг ушла из моего дома в таком расположении духа. Клянусь, у меня и в мыслях не было обидеть ее.
– Ах, – сказала тетушка Пуллет, – Джейн способна выкинуть что угодно. Я не стала бы рассказывать об этом посторонним, за исключением доктора Тернбулла, но я думаю, что Джейн живет в чрезмерной скупости. Я не раз говорила об этом Пуллету, и он согласен со мной.
– Да, ты упоминала об этом в минувший понедельник, когда мы вернулись домой после того, как пили с ними чай, – подтвердил мистер Пуллет, начиная баюкать свое колено и укрыв его носовым платком, как делал всегда, когда разговор принимал интересный оборот.
– Еще бы, – сказала миссис Пуллет, – потому что вы помните, что именно и когда я говорила, лучше меня самой. У него прекрасная память, у моего Пуллета, – продолжала она, с жалостью и сочувствием глядя на сестру. – Мне будет очень не хватать его, если с ним приключится удар, потому что он всегда знает, когда я должна принимать снадобья, прописанные мне доктором, а ведь я принимаю три разных вида.
– Пилюли каждый вечер через день, новые капли в одиннадцать и в четыре, а шипучую смесь – «по мере надобности», – отбарабанил заученным тоном мистер Пуллет, правда, с некоторыми паузами – на языке у него лежала пастилка.
– Пожалуй, сестрице Глегг было бы лучше самой наведаться к доктору вместо того, чтобы жевать волнистый ревень всякий раз, когда с ней приключается расстройство, – посетовала миссис Талливер, которая, что вполне естественно, верила в безграничные возможности медицины исключительно в применении к миссис Глегг.
– Это ужасно, – заявила тетушка Пуллет, сделав попытку всплеснуть руками. – Как люди могут шутить с собственными внутренностями! Это ведь все равно что плевать в лицо провидению. Иначе для чего нужны доктора, если мы не зовем их к себе? Особенно когда у тебя есть деньги для этого, что совсем не выглядит респектабельно, как я много раз говорила Джейн. С такими знакомыми мне и знаться-то стыдно, право слово.
– Полагаю, нам совершенно нечего стыдиться, – возразил мистер Пуллет, – потому что теперь, после кончины старой миссис Саттон, другой такой пациентки, как ты, доктору Тернбуллу вовек не сыскать во всем приходе.
– Знаешь, Бесси, а ведь Пуллет хранит все мои бутылочки со снадобьями, – сказала миссис Пуллет. – И не даст продать ни одной. Он уверяет, что после моей смерти их увидят только самые достойные. А сейчас они уже занимают две длинные полки в кладовой. Но, – добавила она, всплакнув немного, – не случится ничего страшного, если они заполнят и целых три. Я ведь могу умереть и до того, как допью последние. Коробочки из-под пилюль лежат в стенном шкафу в моей комнате – не забудь об этом, сестрица, – а вот от облаток останутся одни только счета да рецепты.
– Не говори о своей кончине, сестрица, – взмолилась миссис Талливер. – Если ты вдруг умрешь, то между мной и сестрицей Глегг не останется никого. А ведь никто, кроме тебя, не сможет заставить ее помириться с мистером Талливером, потому что сестрица Дин никогда не встанет на мою сторону, а даже если такое и случится, она все равно не сможет говорить так же, как ты, потому что у нее нет независимого состояния.
– Знаешь, твой муж, он ведь и впрямь неуклюжий и тяжелый человек, Бесси, – заметила миссис Пуллет, уже готовясь добродушно пожалеть и сестру, и себя саму. – Он никогда не вел себя с нашей семьей так мило, как должен был, да и дети пошли все в него: мальчик себе на уме и проказлив, убегает от своих дядюшек и тетушек, а девочка груба и смугла. Судьба жестоко обошлась с тобой, и мне очень жаль тебя, Бесси, потому что ты всегда была моей любимой сестрицей и нам всегда нравились одни и те же фасоны.
– Я знаю, что Талливер порывист и говорит иногда всякие странности, – согласилась миссис Талливер, смахнув слезинку в уголке глаза. – Но я совершенно уверена в том, что, женившись на мне, он ни разу не помешал мне пригласить к нам в дом подруг с моей стороны.
– Не хочу пугать тебя, Бесси, – сказала миссис Пуллет, – потому что не сомневаюсь – у тебя и без того забот полон рот, а у твоего мужа на шее сидит эта его бедная сестрица с детьми, а тут еще, как говорят, он любит судиться. Не сомневаюсь, что после его смерти ты останешься без гроша. Хотя можешь быть покойна – из семьи я этого не вынесу.
Подобный взгляд на ее положение, вполне естественно, никак не способствовал обретению миссис Талливер душевного равновесия. Она не обладала живым воображением, но при этом не могла не думать о том, что дело ее – трудное, поскольку окружающие думали так же.
– Знаешь, сестрица, я-то тут ни при чем, – сказала она, подгоняемая страхом, что все ее предполагаемые несчастья вполне заслужены ею, и потому пытаясь оправдать свое прошлое поведение. – Ни одна женщина не печется так о своих детях, как я. А на Благовещение в этом году я работала за двоих, снеся вниз все покрывала. А уж вино, которое я сделала из последней черной бузины, – пальчики оближешь! Я всегда предлагаю его вместе с шерри, хотя сестрица Глегг вечно упрекает меня в расточительстве. А что до моей аккуратности в одежде и чистоты в доме, то во всем приходе никто не посмеет упрекнуть меня в злословии и коварстве, потому что я никому не желаю зла. И никто не жалеет, послав мне пирог со свининой, поскольку мои пироги ничуть не хуже соседских. А постельное белье пребывает в таком порядке, что, умри я завтра, мне было бы не стыдно за него. Нет, женщина не может сделать большего, да и не должна.
– Знаешь, Бесси, все это без толку, – заявила миссис Пуллет, склонив голову к плечу и с жалостью устремив взгляд на сестру, – если твой муж лишится всех своих денег. Нет, конечно, если дело дойдет до распродажи и соседи раскупят твою мебель, то будет утешительно думать, что ты натирала и содержала ее в хорошем состоянии. А твое постельное белье с девичьими вензелями разойдется по всей округе. Для нашей семьи это станет большим ударом. – С этими словами миссис Пуллет медленно покачала головой.
– Но что я могу поделать, сестрица? – спросила миссис Талливер. – Мистер Талливер не из тех, кому можно указывать, что делать, даже если я приду к пастору и наизусть выучу то, что должна буду сказать мужу по этому поводу. К тому же я даже не стану делать вид, будто понимаю, как надо расходовать деньги или кому давать взаймы. Я никогда не смогу разобраться в мужских делах так, как это выходит у сестрицы Глегг.
– Что ж, в этом ты похожа на меня, Бесси, – сказала миссис Пуллет. – На мой взгляд, для Джейн было бы куда лучше, если бы она почаще протирала высокое зеркало в своем трюмо – на прошлой неделе я заметила на нем много пятен, – вместо того чтобы пенять людям с доходами, которые ей самой и не снились, или указывать, как им поступать с собственными деньгами. Но мы с Джейн всегда были полными противоположностями: она предпочитала полосатые наряды, а я – в крапинку. Тебе ведь тоже нравятся пятнышки, Бесси, в этом мы с тобой всегда были похожи.
– Да, Софи, – согласилась миссис Талливер, – я помню, что нам с тобой нравился голубой фон с белыми пятнами – сейчас у меня стеганое одеяло такого цвета. Но если ты отправишься к сестрице Глегг и убедишь ее помириться с Талливером, я буду тебе чрезвычайно благодарна. Ты всегда была мне хорошей сестрой.
– Но самым правильным для Талливера будет поехать к ней и помириться с ней самому, сказать, что он сожалеет о своих поспешных словах. Если уж он взял у нее деньги, то не должен задирать нос, – возразила миссис Пуллет, чья пристрастность не позволяла ей закрыть глаза на принципы; она не забывала о том, что причитается людям с независимым состоянием.
– Говорить об этом бесполезно, – сварливо заявила бедная миссис Талливер. – Даже если я встану перед Талливером голыми коленями на камни, то он все равно не унизит себя.
– Но ты же не можешь ожидать, что я сумею убедить Джейн просить прощения, – сказала миссис Пуллет. – Норов у нее такой, что ого-го. Хорошо, если она не свихнется, хотя еще никто из нашей семьи не попадал в сумасшедший дом.
– И вовсе я не предлагаю ей просить прощения, – ответила миссис Талливер. – А вот если она просто оставит без внимания его слова и не станет требовать досрочного возвращения своих денег, это было бы славно. Одна сестра ведь вполне может просить этого у другой. Время лечит, и Талливер позабудет об этом недоразумении, и они вновь станут друзьями.
Как вы понимаете, миссис Талливер даже не подозревала о твердой решимости своего супруга любой ценой выплатить пять сотен фунтов; по крайней мере, для нее это было непостижимо.
– Что ж, Бесси, – скорбно заметила миссис Пуллет, – я не собираюсь помогать тебе разориться. Если потребуется, я не задержусь с тем, чтобы прийти тебе на помощь. Но мне не нравится, что у нас в семье пошли ссоры. Я скажу об этом Джейн. Съезжу к ней завтра же, если Пуллет не возражает. Что скажете, мистер Пуллет?
– У меня нет возражений, – отозвался мистер Пуллет, которого вполне удовлетворил бы любой исход ссоры, лишь бы только мистер Талливер не обратился за дружеским займом к нему. Мистер Пуллет крайне щепетильно относился к своим инвестициям и в качестве обеспечения под залог признавал только землю.
После непродолжительной дискуссии о том, не лучше ли будет для миссис Талливер сопровождать их во время визита к сестрице Глегг, миссис Пуллет, заметив, что пора пить чай, развернулась, чтобы достать из ящика комода изящную салфетку камчатного полотна, которую и прикрепила себе на грудь наподобие передника. Дверь и правда вскоре отворилась, но вместо подноса с чайными принадлежностями Салли явила на всеобщее обозрение предмет столь поразительный, что обе женщины, и миссис Пуллет, и миссис Талливер, разразились пронзительными воплями, отчего мистер Пуллет проглотил свою пастилку – всего лишь в пятый раз за всю жизнь, как он заметил впоследствии.