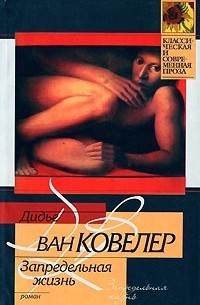Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Я умер в семь часов утра. Сейчас в окошке радиобудильника светится 8.28, а никто еще не знает об этом событии. Книга, над которой я заснул вчера вечером, захлопнулась, и мой палец остался в ней закладкой.
В первую минуту я решил, что мне просто снится дурной сон, который кончится ровно в девять, когда, как каждое утро, включится «Радио Савойя» и вернет меня к повседневной реальности. Однако необычность этого сна – изображение не менялось, я постоянно видел со стороны, извне, собственное бездыханное тело крупным планом и с наплывом – несколько смущала. Все еще не решаясь поверить до конца, но уже готовый смириться, я стал рыться в памяти, пытаясь вспомнить, что случилось ночью, но не находил ни следа боли, дурноты, разрыва – одно только ничего не говорящее ощущение ровной протяженности.
Помню, в половине седьмого Фабьена, как всегда, подняла стальную шторку на витрине лавки, готовясь принять ранних клиентов – строителей. И уже через минуту кричала, высунувшись в сад через заднюю дверь:
– Жак! Месье Рюмийо интересуется газовыми горелками для городских условий, что ты ему посоветуешь?
Я зарылся в подушку и подумал – и это была последняя мысль, которая сформулировалась у меня изнутри: «Нет меня, я умер!» Похоже, так и случилось. Представляется невероятным, чтобы простые слова, в которые я не вкладывал ни воли, ни приказа, вдруг возымели столь действенную силу, но другого объяснения своей внезапной кончины я не вижу. Чувствую (прошу прощения – чувствовал) я себя прекрасно. И даже имел шанс дожить чуть не до ста лет – так по крайней мере посулил мне электронный астролог, сервер «Минителя» «36-15 Оракул», – я услышал по «Радио Савойя» рекламу и из любопытства подключился. Вы вводите свой возраст, вес пульс, знак зодиака, профессию и любимое занятие – и получаете предполагаемую продолжительность жизни. На мои данные – тридцать четыре с половиной, семьдесят три, пятьдесят девять, Близнецы, торговец скобяными товарами, акварель – выскочило девяносто восемь лет и поздравление с лучшим результатом. И вот вам!
– Слышишь, Жак! Что ты скажешь по поводу газовой горелки для месье Рюмийо?
Моя вдова повторила вопрос исключительно для того, чтобы месье Рюмийо, один из наших лучших клиентов, подумал, что я с утра пораньше в делах, копаюсь на складе. Она прекрасно знает, что на самом деле я сплю до девяти, но, поскольку владельцем скобяной лавки числюсь я, считает нужным создавать видимость, будто я активно занимаюсь торговлей.
– Спасибо, Жак! – Выслушав ответ, которого не было, Фабьена, видимо, передала месье Рюмийо полученные от меня сведения.
Рядом с моим телом, тихонько постанывая, спит Наила. Первые лучи солнца гладят ее разметавшиеся на голубой подушке волосы. Нежность, тоска и безутешность охватили меня при виде наших обнаженных тел, тесно прижавшихся друг к другу на узком диване. Я лежу на животе, впритык к стенке, и правой рукой обнимаю Наилу за плечи. Мой трейлер – домик-прицеп – чуть раскачивается от ветра, и можно подумать, что я дышу.
Судя по ракурсу, я нахожусь где-то над холодильником – надо бы сказать, «находится моя душа», но я никак не выговорю, мне все кажется, что это было бы преувеличением. Ничего не изменилось в моем мышлении, я не получил никакого откровения, у меня не открылось никакого особого дара, никакой сверхчувствительности. Просто я отделился от тела и смотрю на него, как будто я – висящее на стене зеркало. Но, за исключением этого, я как был, так и остаюсь собой. Единственная серьезная перемена касается зубов: у меня уже три дня ныл нижний коренной, а сегодня боли как не бывало. И вот интересно: то, что прекратилась зубная боль, произвело на мое сознание большее впечатление, чем то, что я скончался. Остановка же сердца и дыхания не вызвала у меня никаких эмоции – я ее попросту не заметил. Спал себе и спал. Можно сказать, проспал свою смерть. И сам не знаю, хорошо это или плохо.
Наила повернулась и уперлась в мою ногу ягодицами. Я с грустью констатировал, что не чувствую ни уютного тепла ее кожи, ни холода, который должен передаваться ей, – впрочем, я не знаю, успел ли уже остыть. Меня самого раздражает, что приходится говорить «я», обозначая одновременно семьдесят три килограмма неживой плоти и покинувшую ее личность, но мне пока трудно разделять эти два моих компонента. Наверное, со временем привыкну. А, собственно, сколько времени я буду пребывать в таком состоянии? Мое сознание – оно что, тоже вот-вот должно умереть? Если я продолжаю жить, как утка, которая еще бегает пару минут с отрубленной головой в силу рефлекса, то эта мнимая жизнь продлится до тех пор, пока информация о моей смерти не дойдет до всех нервных узлов… Может, некий контрольный пункт в самых глубинных структурах мозга еще не в курсе события и действует наперекор общему процессу или отказывается сдаться? Этакий центр управления полетом, который срочно катапультировал мой интеллект в виде спутника, чтобы сохранить обозревающее устройство – только зачем?
Откровенно говоря, все это меня очень мало колышет. Единственное, что могло бы представлять для меня интерес в плане посмертной жизни, это возможность воскреснуть. То есть вернуться в свое тело на денек-другой или пускай хоть на несколько часов. Успеть кое-что привести в порядок, кое-что доделать – самое важное и дорогое. Закончить картину, изменить завещание, написать письмо сыну, перевести на один счет дивиденды по акциям и страховку, сменить аккумулятор в моем «форд-ферлейне», который стоит и ржавеет под чехлом, да прокатить отца вокруг озера и наконец насладиться еще разок телом Наилы и пряным фондю по-савойски с сухим вином. Пребывать в виде чистого духа – это не по мне. Если нельзя активно действовать, участвовать в жизни, общаться, лучше уж совсем исчезнуть. У меня не созерцательная натура.
Кварцевые цифры на часах сменяют друг друга под мерное дыхание Наилы, к которому каждые десять минут присоединяется урчание холодильника. Кажется, время идет для меня так же, как при жизни, но бег секунд больше ничего не значит, никуда не направлен. Скучно. Я попробовал молиться, препоручить свою душу Кому (с большой буквы) подобает, но почувствовал себя необслуженным клиентом в ресторане, который старается привлечь внимание официанта, и замолк из чувства собственного достоинства. Господи Боже (если Ты существуешь – до настоящего момента у меня нет на этот счет никакой информации…), Господи, какая скука! И, сдается мне, это еще только самое начало.
Несколько раз я делал попытки воссоединиться с плотью. Собрав все силы, о которых решительно ничего не знал: какие они, как действуют и существуют ли вообще, – пытался сконцентрироваться и вернуться в себя, втиснуться в тело, как в тесный ботинок. Черта с два! Тужился, тужился, прилаживался так и этак, искал точку опоры, и все без толку – все равно оставался снаружи. Добился только продолжительного урчания в животе, да и то неизвестно: может, это результат не зависимой от моей воли химической реакции.
Впрочем, желание вернуться в тело скоро прошло. Какой-то внутренний инстинкт – или стремление оправдать неудачу – говорил мне, что если бы мне и удалось обрести свою оболочку, то я остался бы заточенным в ней, пока она не рассыплется в прах. Нет, лучше уж поскучаю в нематериальном состоянии над холодильником, чем буду медленно разлагаться по законам биологии. Если все равно предстоит воскреснуть из праха – в конце концов, возможно, я нахожусь лишь в преддверии, на стадии первоначальной подготовки к новой, еще не изведанной форме существования, – чего ради тянуть волынку?
Без четверти восемь я смирился с неизбежным – окончательно признал свою смерть. И это вовсе не было капитуляцией. Все мои потуги горе-спасателя, целителя-телепата вновь завести сердце, восстановить дыхание и кровообращение казались теперь глупыми и жалкими. Оглянешься – так даже смешно. Я улыбнулся. Как бы это объяснить? Стоило мне успокоиться, принять свое, так сказать, посмертное состояние, как все компактное пространство моего трейлера, с красками, кистями, мольбертами и спящей натурщицей, прояснилось, стало более ко мне расположенным, более приязненным, что ли – отсюда ощущение улыбки, вот как говорят: «улыбается жизнь». Перестав бунтовать, я как бы вписался в отлаженный миропорядок, и природа радовалась этому. Конечно, все это очень субъективно, но что я могу поделать, в моем-то положении!
Итак, вот уже сорок пять минут я покорно слежу за скачущими на экранчике зелеными цифрами и жду. Жду, что будет дальше. Жду, чтобы проснулась Наила и увидела меня. Она первой удостоверит мою смерть. Посмотрит, откажется верить, испугается, расстроится – и это будет окончательным закреплением происшедшего. Тем самым мое бытие будет исчерпано. Сначала я стану покойником для нее, потом для моего семейства, и их скорбь вольется в мою память. Если мое мышление и дальше не потухнет, я обрету свою проекцию в другом измерении – в зеркале чувств моих ближних: горя, любви и обиды, – которые вызовет мой внезапный конец. И уже не буду одинок.
Пока же я парю над холодильником под усыпляюще ровное дыхание Наилы, словно привязанный к своему телу невидимой бечевой. Однако повторяю для сведения живых, если кто-нибудь из них меня слышит (хотя мои первые попытки установить контакт потерпели неудачу): это единственное изменение, которое я могу отметить. Теперь, когда недоумение, протест и страх перед неизвестностью, бушевавшие во мне поначалу, улеглись, я чувствую себя как обычно. Разве что ощущаю, ввиду прерванной связи между сознанием и мышцами, некоторую расслабленность и неприкаянность, но в этом для меня нет ничего нового. Я и при жизни был весьма легковесным.
Если что и омрачает мой покой, так это мысли о Наиле. Она первый раз согласилась остаться у меня в трейлере, под окнами жены. Я умоляю ее проснуться и уйти, чтобы не оказаться замешанной в моей смерти, избежать скандала. Фабьена все знает или по крайней мере догадывается, и, по-моему, ей на это плевать, но родители Наилы – правоверные мусульмане, и они ей не простят. У нас с ней все было безоблачно… И вдруг такой конец! Представляю, что начнется: подозрения, допросы в полиции, пересуды, злорадные расистские россказни, косые взгляды – шум на весь городок. Проснись скорее, радость моя, пожалуйста, проснись и уходи!… Я так хочу остаться живым в твоей памяти, в нашей любви, которая касается только нас двоих. Беги скорее, и, может, успеешь забрать меня с собой; может, я поселюсь в твоих воспоминаниях, как знать… Проснись же!
Не слышит. Коснуться ее я не имею никакой возможности, проникнуть в ее сны тоже не могу. Какое горькое бессилие.
Мне вспомнились все теории и верования, которыми нам прозудили уши на земле. Тридцать с лишним лет я был убежден, что после смерти существует Нечто. А выходит, после смерти нет ничего. Одно только мое «я» – и больше совсем ничего. Единственное любопытное явление, которое я отметил с семи часов двух минут – я принял за точное время своей кончины показания кварцевого будильника в момент, когда увидел его из позиции «над холодильником», – касается памяти. Она как будто подчинялась теперь некоему ритму, подобному вдоху и выдоху, приливу и отливу: меня по временам захлестывал, помимо моего желания, поток воспоминаний о чем-то давно забытом, незначительном или смутно неприятном, что давно было вытеснено временем. Ничего особенно интересного, и я уже начал жалеть, что не прожил жизнь бурно, экстравагантно, бесшабашно и экзотично… Если я обречен после смерти пересматривать всю цепочку нудных мелочей, из которых она состояла, – ничего себе развлеченьице! Или это, что ли, и есть рай и ад? Ты на целую вечность заперт один, и тебе снова и снова, до бесконечности, прокручивают день за днем все, что ты делал, пока был жив. В таком случае участь какого-нибудь наглого гуляки, нераскаявшегося грабителя или удачливого садиста вполне может оказаться куда завиднее участи обычного порядочного человека, который никогда не делал ничего дурного и жил в мире со своей совестью.
Гляжу на тело, из которого меня выставили без всякого предупреждения, – вот он я, этот парень с голым белым задом, что валяется впритирку к стенке, долговязый, дрябловатый, нескладный, лежит, засунув палец между двадцать четвертой и двадцать пятой страницами романа Ламартина. Что я оставил после себя на земле? Что толку было от моего существования? Всю жизнь я хранил верность юношеским мечтам, которыми сам пресытился; всю жизнь лелеял образ идеальной женщины, неизменно желал добиться внутренней гармонии в своих картинах, мазал полотно за полотном, чтобы они служили перегородкой между мной и обыденностью; наблюдал, как стареет мой отец и растет мой сын, и старался не показать им свое разочарование; обожал озеро Бурже, книги Александра Дюма, запах мокрых кипарисов, бургундское вино, фондю, оперы Верди и песенки Брассанса, заварные пирожные, тихий снег и первое пятно краски на полотне, которое еще вольно стать чем угодно. Я любил жизнь, но обходился малым; путешествовал по миру на своем неподвижно стоящем прицепе, и если не отъезжал далеко от дома, зато ничего не потерял в пути. Прожил сравнительно благополучно и ушел из жизни, как выходят из-за стола, учтиво поблагодарив шеф-повара. К чему ругать меню, раз сам его выбрал, оспаривать счет, выпрашивать добавку? Будь мне отпущено еще с десяток лет, я с удовольствием прожил бы их, а нет – легко обойдусь. Все равно, сколько бы времени тебе ни было отпущено, гением не станешь, а все остальное мне успело надоесть.
Конечно, все было бы иначе, если бы я был нужен тем, кто мне дорог. Но сын меня не любит, отец ругает, а жена давно не замечает. Люсьен ставит мне в вину, что я не имею достаточного веса в глазах его друзей и учительницы, отец обижается, что я уже не ребенок, Фабьена прекрасно справляется с лавкой – я лишь наследник стен. Ну а Наила… Наила торгует путешествиями в турагентстве «Хавас», я для нее – лишь эпизод, найдутся другие клиенты, посвободнее, которые забредут полистать каталоги.
Я не хочу сказать, что моя смерть как-то оправдана, но не было и никаких доводов, чего бы ради ее откладывать. Пустота, которая после меня останется, заполнится довольно быстро. Мой уход всем на пользу: Люсьену наконец будет чем похвастаться, папа сможет еще глубже погрузиться в прошлое, обложившись моими детскими фотографиями, а Фабьена поспешит забетонировать заросшую бурьяном площадку, которую занимал трейлер, чтобы расширить место для склада. Все без меня пойдет отлично. Возможно, это единственный отчет который я смогу представить Кому надлежит, но, как мне кажется, если мои руки пусты, значит, они уж точно чисты.
Ну вот. По-моему, я испытал свою совесть – проверка закончена. Если Ты этого дожидался, чтобы появиться. Я готов. Можешь дать о себе знать. Чем больше минут сменяется на экране часов, тем больше я убеждаюсь – вот-вот произойдет нечто: меня позовут, словно пациента из очереди перед врачебным кабинетом.
Интересно, кто мне откроет дверь, кто вызвался или кому поручено меня встречать? Ангел-хранитель, Судия, мать, которой я так и не узнал, бабушка с дедушкой, которых мне так не хватало, светящееся существо, возникающее в конце туннеля, как рассказывают некоторые из побывавших одной ногой в могиле и вынесших из состояния комы непоколебимо-безмятежный взгляд и тоску по смерти, которая не пожелала взять их? Или, может, перевозчик душ через реку забвения? Или инспектор, который будет проверять мои счета? Или крылатый казенный адвокат, который выделен защищать меня против рогатого прокурора?
Дожидаясь, что же будет, от нечего делать еще раз мысленно проглядываю свою жизнь.
На полу, завернутые в бумажный носовой платок, валяются два презерватива – свидетели моей последней ночи в этом мире; комок у самого мольберта, где сохнет портрет Наилы, которому суждено остаться незавершенным.
Меня звали Жак Лормо, я проживал по адресу: Экс-ле-Бен, авеню Терм, дом 64, мне было почти тридцать пять, но все говорили, что я на них не тяну. Я и вообще-то ни на что особенное в жизни не тянул. Вот уже пять с половиной поколений Лормо торгуют скобяным товаром, дело передается от отца к сыну, меня же семейное призвание обошло стороной: покупатели меня раздражали, цифры не лезли в голову, инструменты валились из рук. К счастью для моего отца (который терпеливо, хотя и не слишком веря в успех, пытался направить меня на истинный путь), я повстречал Фабьену.
Первое время после того, как отец оставил нам магазин, она из уважения к нему еще делала вид, что я участвую в торговле. Продолжала его игру. Стояла за прилавком и при случае призывала меня на помощь. «Жак, объясни мадам Бофор, что бельевая веревка продается в мотках по двадцать метров, а меньше отрезать нельзя». Но мадам Бофор долго и нудно убеждала меня, с мерками в руках, что ей нужно от силы шесть с половиной метров, и я, чтобы она отстала, в конце концов шел и отрезал ей эту веревку, так что Фабьена вскоре понизила меня по служебной лестнице. Я же был только рад спускаться по ступенькам, на которые меня заставил вскарабкаться отец. От продавца-консультанта к кассе, от помощника кассира в отдел оборудования для ванных комнат, оттуда, поскольку я валялся в ваннах и читал «Три мушкетера», меня вежливо переместили подальше с глаз на второй этаж, к болтам и гайкам, которые я отвешивал по заказам Фабьены; она передавала их по внутреннему телефону, а я, при большом наплыве покупателей, его выключал и потому вскоре очутился в подсобке, где, как когда-то в пятнадцать лет, распаковывал картонные коробки. Постепенно жена отказалась от мысли добиться от меня хоть какого-то толку, привыкла, что меня никогда нет рядом, и я мог спокойно вернуться к своим картинам и устроиться в трейлере «Эвазьон-400 L», свадебном подарке отца.
Между тем картина у меня перед глазами сменилась на другую. Меня словно охватило тепло, я слышу пение птиц, далекий гул винтового самолета. Мне пять лет, и я только что нечаянно наступил на улитку в саду нашего дома в Пьеррэ. Можно подумать, это самое важное событие в моей жизни – я все время мысленно к нему возвращаюсь и вновь, обрывками, его переживаю. То вижу всю сцену целиком, то в сжатом виде, то со всеми ближайшими и дальними последствиями. Вот я поднимаю улитку и кладу ее на листок орешника. Раковина разбита, рожки поникли, скользкое тело съежилось. Я заливаюсь слезами. Бегу домой и выпрашиваю у занятой стряпней бабушки вилку для торта и скотч, устраиваюсь со всем этим хозяйством в кухне за столом и пытаюсь починить ракушку – складываю осколки один к одному, а на пустые места вклеиваю картонные заплатки. Потом кладу раненую в коробку из-под шоколадного печенья, подстилаю ей листочек салата и выставляю коробку на подоконник, на солнышко. Улитка не шевелится, но это просто потому, что она еще боится. Папа выслушал мой диагноз, затягиваясь трубкой, и, выпустив дым, покачал головой. Я должен был, как он считает, воспользоваться листьями салата в натуральном, а не кулинарном виде или уж хотя бы, рассуждая с чисто психологических позиций и из деликатности по отношению к улитке, стряхнуть с них резаный чеснок. Все эти, казалось бы, давно забытые слова, из которых я тогда мало что понял, воспроизводятся в моей памяти с чеканной точностью, и вокруг каждого эхом роятся позднейшие ассоциации.
Наступил вечер, а улитка так и не пошевельнулась. Мне было ясно, что она умерла, но я не мог признать это перед взрослыми и уверял, что я ее вылечил, демонстрируя засохшие листья салата, якобы ею обгрызенные. Папа кивал, бабушка же считала, что потакать моим иллюзиям нехорошо и жестоко. Она показывала мне на цепочку муравьев, которая протянулась по картонной стенке коробки прямо к застывшей в салатных грезах выздоравливающей. Я давил муравьев по одному пальцем – нечего, навещать больную еще рано. Папа налил полную компотницу воды и пустил реанимационный бокс плавать по поверхности, чтобы непрошеные посетители утонули. Бабушка со вздохом пошла спать.
Посреди ночи я встал и в пижаме вышел в мокрый от росы сад. Тщательно прочесав в лунном свете треугольный участочек в два десятка квадратных метров, где росли гортензии и японские сливы, а над головой скрипел под ветром соседский орешник, нашел-таки точно такую же улитку. Осторожно взял и, объяснив ей ситуацию, отнес в дом, а там переклеил на ракушку, в которую она, конечно же, спряталась, кусочки скотча с картоном. После чего положил невредимую улитку на место пострадавшей, а ту, прочитав над ней «Отче наш», зашвырнул за забор к соседям.
Утром меня разбудил папа и радостно сообщил о чудесном исцелении. Он вытащил из ванной бабушку с зубной щеткой в руке, повлек ее к подоконнику, где стояла коробка, и дрожащим пальцем показал нам обоим на залатанную скотчем воскресшую улитку – она безмятежно завтракала листиком цикорного салата. Я напустил на себя скромный вид, а бабушка поздравила меня с прекрасным самочувствием пациентки и протянула руку, чтобы сменить салатный лист. И тут-то, под листом, она обнаружила вторую улитку, украшенную точно такими же скотчевыми заплатками, которая шевелила рожками, обследуя внутреннюю поверхность коробки. Видимо, нам с папой пришла в голову одна и та же мысль. Не говоря ни слова, мы посмотрели друг на друга с полным взаимопониманием, которое существовало между нами много лет и притупилось только с появлением в нашей жизни Фабьены.
– Жак!
Ее голос замутняет кадр, и снова меняются декорации. С пола до потолка стеллажи с металлическими ящиками, и на каждом вместо ярлыка отвертка, или гвоздь, или шпингалет, или пассатижи разных калибров – моя супруга, придумавшая это новшество, постановила, что это лучшее украшение лавки и одновременно стимул что-нибудь купить. Если покупатель не знает названия нужного ему предмета, ему достаточно ткнуть пальцем, не уронив своего достоинства. За десять лет Фабьена подняла процент прибыли, и без того вполне приличный, до сорока. Она приписывает этот успех своим способностям психолога, но, по-моему, куда большую роль тут сыграли ее внешние данные – в двадцать восемь лет она сохранила безупречную фигуру и легкую походку, благодаря которым в 1986 году завоевала титул «Вице-мисс Савойя», вот только скандинавски-белокурые волосы несколько потускнели под неоновым освещением торгового зала, превратив ее в типичную блондинку-продавщицу.
Фабьена стоит около приспособления для мытья паласов и зовет меня. Не знаю, перенесся ли мой дух в магазин или это воспоминание.
– Жак, мадемуазель Туссен хочет посмотреть последний каталог автокосилок от «Массей-Фергюсона».
Воспоминание. Вот я вылезаю из витрины и несу мадемуазель Туссен каталог новейших косилок. Ну а эта картинка мне зачем? Что за важность в этой беседе о преимуществах усовершенствованного подвесного бака-травосборника по сравнению с моделью D-93? Или из всей моей земной жизни не нашлось припомнить ничего более стоящего и приятного? Я еще понимаю – эпизод с улиткой, он имеет какую-то весомость, какой-то смысл, возможно, даже символический, но снова выслушивать брюзжание мадемуазель Туссен по поводу ее садового инвентаря – это-то чего ради?
Я и без того слово в слово знаю все, что скажет эта карга и что я ей отвечу.
– А систему приводных ремней к лезвиям они улучшили? А то у меня за сезон срывались трижды – не успеешь включить.
– Это еще и потому, что вы слишком коротко подстригаете, мадемуазель Туссен. Я ведь вам говорил, что надо ставить переключатель на цифру два.
– На цифре два газон похож на плешивого ежа, а я хочу, чтоб он был гладенький, как поле для гольфа, я уж вам сто раз повторяла!
Вот стерва. Семьдесят лет, железное здоровье, сухонькая, как девчонка, на лице ни морщинки, глазки змеиные, седые волосенки забраны в хвост резинкой, иссиня-черное платье и дутая куртка в любое время года, собачья корзинка на руке, здоровенные розовые кроссовки «Палладиум» на литой подошве, оставляющие великанские следы, – ее ноги похожи в них на зубочистки, воткнутые в закусочные мини-колбаски. Сколько раз я пытался спихнуть ее нашим конкурентам, но нет: у нее самое крупное в Эксе состояние, и она желает отовариваться в самом крупном скобяном магазине. Поэтому каждые две недели является менять свой инвентарь, требует «хозяина», каковая роль возлагается по этому случаю на меня, и я обязан выслушивать ее претензии, пока не подпишу ей чек. Мы оба понимаем, что это комедия, но ей так интереснее жить. В общем-то я ее понимаю. До шестидесяти трех лет она была сиделкой при своей деспотичной и придирчивой матери, которой принадлежало две трети всех местных гостиниц, и та всячески ею помыкала. Они ездили по городу в старой «симке-аронде», мегера-мамаша позади, дочка впереди за шофера. Колесили на лысых покрышках от «Бристоля» к «Бо-Риважу», от «Гранд-отеля» к «Королеве Гортензии», проверяли, не растащили ли вилки, сколько заказано номеров, на месте ли персонал, урезали расходы на ремонт сантехники.
Каждый раз, когда мадемуазель Туссен делала робкую попытку нарушить заведенный порядок, например заикнуться о том, что неплохо бы включить центральное отопление в трехкомнатной квартире, где они жили, или купить пару новых покрышек, мегера неизменно отвечала: «Вот умру – делай что хочешь». Сразу после кончины матери мадемуазель Туссен распродала все гостиницы, купила себе спортивный «ламборгини-дьябло», парк в три гектара в центре города, в котором отгрохала уродливую коробку с солнечными батареями, и теперь проматывает свое наследство, путешествуя по свету и покупая газонокосилки.
– Позвоните в «Массей-Фергюсон», Жак, и спросите напрямик насчет приводных ремней.
– Там занято, – слышу я свой ответ.
– Наберите еще раз. Я не тороплюсь. Единственное, что у нее есть хорошего, так это ее собака.
Старый, облезлый, глухой и кривой пудель, которого она всюду таскает с собой, а он, бедняга, еле дышит, сидит, забившись в свою корзинку, и цепляется за жизнь, чтобы никому не причинить лишних хлопот.
– А то ишь какие хитрые: делают ролики побольше, пропускают ремни потолще, а усовершенствовать саму систему подвода лезвий и не думают!
– Всего хорошего, мадемуазель Туссен.
Чтобы заставить себя произнести эти слова, я собрал все силы и предельно напрягся – едва я произнес их, как сцена оборвалась.
И вот я в каком-то желтоватом тумане и среди полной тишины. А ведь это уже прогресс. Коль скоро я способен бороться с пошлостью, которой были наполнены мои дни, и изыскивать в памяти средства проветривать свою избирательную память, то пытку – если меня пытают – еще можно вынести. Или это еще цветочки? Господи Боже, кто бы Ты ни был, Тот, во имя Которого меня крестили, или Другой, избавь меня от полного беспамятства, от потери личности и ее окружения, от пустоты. Теперь-то я знаю, что именно этого боюсь больше смерти.
Я не хочу совсем исчезнуть. Эта желтая дымка, поначалу показавшаяся мне такой уютной, теперь вдруг превратилась в удушливую клоаку, каменный мешок. Я согласен снова плыть против течения, снова ухватить нить своей жизни, согласен проштудировать все входящие в программу воспоминания, как будто готовлюсь к какому-то экзамену.
Ну вот – что-то вырисовывается, туман редеет и уступает место интерьеру магазина. Я снова в левой витрине, там же, где был, когда меня позвала Фабьена. Может, я совершил скачок во времени и эпизод с приводными ремнями, длившийся около часа, ужался? Как бы не так. Мадемуазель Туссен стоит на другой стороне улицы, повелительно потрясая сложенным зонтиком – пытается остановить поток едущих на зеленый свет машин. Я не только не сократил сцену и не обошел ее стороной, а, наоборот, угодил к самому началу, к той точке, от которой еще недавно так отбрыкивался. Ничего, главное – все-таки вернулся. С тех пор как Фабьена отказалась от мысли приохотить меня к скобяному делу, она требовала от меня только одного – физического присутствия, а то мало ли какие пойдут разговоры. Поэтому я демонстрируюсь. Раз в неделю переоформляю витрину. Прохожие видят меня за работой – я занят делом, соответствую своему положению, продолжаю семейные традиции; они здороваются, я отвечаю. К Рождеству я усыпаю витрину снегом, к Пасхе украшаю яйцами, к Сретенью – блинами, к 8 мая – игрушечными танками. И каждый год получаю первый приз от коммерческого общества нашего района. У меня бывает «египетская» неделя – с выложенными из банок с краской пирамидами и рекламными надписями на свитках самоклеящегося «папируса»; «каникулярная» декада – с пароходами, зонтиками и шашлычницами, расставленными на дюнах из настоящего песка. Но мне самому больше всего нравится экспозиция ко Дню отцов. Я раскладываю в витрине дисковые пилы, электрические ножи – хватит, чтобы вырезать всех любимых домочадцев; этот арсенал наводит несчастных отцов семейств на мысль о бойне под визг и рокот механических орудий убийства, о живописных кровавых оргиях среди праздничных гирлянд и транспарантов с надписями «Поздравляем папочку!».
Возвращаются из школы детишки и останавливаются поглазеть на мое творчество. Я строю им рожи – они гогочут. Выходит на минутку освободившаяся от клиентов Фабьена и гонит их тряпкой. Но, едва она скрывается в дверях, мои зрители прибегают опять. Я надеваю себе на шею деревянное сиденье от унитаза, показываю руками в садовых перчатках «Мульти-флекс» разных чудищ, расстреливаю их электродрелью, они целятся в меня пальцами, я падаю, корчусь под рекламными плакатами на усыпанном бумажными цветами полу и умираю в страшных муках, на секунду останавливая взгляд случайного прохожего, – дети же покатываются со смеху. Я так люблю детский смех. Мой сын никогда не смеется. Он стесняется моего шутовства и всегда отворачивается, проходя мимо витрин. Если я захожу за ним в школу, он делает вид, что не замечает меня. И, щадя его чувства, я иду, поотстав на десяток шагов.
Витрину отделяют от магазина зеленые шторы, которые я задергиваю, когда устраиваю свои представления. Фабьена примерно догадывается о том, что происходит за ними, и переносит испытание с восхищающим клиентов стоическим видом. «Бедная мадам Лормо», – сочувственно вздыхают они, искоса поглядывая в мою сторону, и Фабьена делает им скидку. Об этом знают все постоянные покупатели, так что в дни оформления витрин в лавке полно народу. В конечном счете еще и набегает прибыль, так что мое кривлянье нежданно-негаданно оборачивается рекламной кампанией.
Только один раз, первого апреля, мне удалось вывести Фабьену из себя: я повесил на витрине табличку «Закрыто на инвентаризацию». Все утро Фабьена проторчала за прилавком, не понимая, что происходит, – грызла ногти, шпыняла прохлаждавшихся без дела продавцов. Время от времени она выходила на улицу посмотреть, не идут ли покупатели, и тогда я снимал табличку, а сам продолжал как ни в чем не бывало украшать весеннюю витрину: размещал удочки под пластмассовой яблоней в цвету.
За обедом Фабьена не проронила ни слова, потом вдруг вскочила, схватила ключи от своего «Мерседеса-300 D» (у нас есть «мерседес», чтобы показать, какие мы стали шикарные, и простой дизель-фургон, чтобы показать, какие мы остались скромные) и куда-то укатила на час. Потом я узнал, что она ездила к двум нашим главным конкурентам – к Франсуа-Филиппу и в «Товары для дома-2000», – чтобы их уличить: она решила, что они сбивают цену, делают скидку больше установленного префектурой лимита.
Шутка блестяще удалась, но реакция Фабьены, когда я во всем признался – просто поздравил с первым апреля, – меня ошеломила. Она оглядела по очереди всех служащих – они все были моими сообщниками и чуть не фыркали, дожидаясь, когда настанет минута всеобщего веселья – и заплакала. Беззвучно и неудержимо, прямо на людях. Продавцы по одному улизнули в подсобку, чтобы там отсмеяться вволю. А я стоял и смотрел раскрыв рот: эта холодная красавица, совсем чужая мне, которую я сначала видел в платье с блестками и диадеме, с цветущей лучезарной улыбкой, с почетной лентой «мисс» через плечо, а потом сразу превратившейся в работящую, упорную, рачительную хозяйку, одинаково ответственно выполнявшую функции главы фирмы и примерной матери, – эта женщина вдруг предстала передо мной девчонкой с зеленного рынка, какой была до того, как мы встретились. Маленькой, неопытной, продрогшей на холодном ветру, которую тиранят родители и презирают другие торгаши.
Я обнял ее, попросил прощения, и мы в последний раз были близки. Всю ночь она пролежала с открытыми глазами, а на другой день предложила мне отныне спать в гостевой комнате. Я возражал: подумаешь, неловкая шутка, у меня и в мыслях не было ее обижать. «Вот именно, – сказала Фабьена. – В том-то и дело, что ты даже не подозреваешь, когда и чем причиняешь мне боль». С тех пор мы только сохраняли видимость супружеских отношений перед сыном или когда шли на вечер в Лайонс-клуб, куда я изредка соглашался пойти для порядка. А из гостевой комнаты я вскоре перебрался в трейлер.
Прекрасно понимаю, почему возникло воспоминание об этом первом апреля и почему оно было таким ярким, таким болезненным. Иначе не могло и быть. Я знаю всю свою вину перед Фабьеной, знаю, что несправедливо пренебрег ею из-за своей инертности, неизжитого мальчишества, обиды на то, что ничего не сумел сделать в жизни. Легче всего было переложить вину за это на нее. Счесть, что мою свободу загубил ребенок, которого я не хотел. Ребенок, так похожий на мать, в котором нет ни чувства юмора, ни лени, который начисто лишен художественной жилки. Музыка, живопись, книги оставляют его совершенно равнодушным. Ему хочется только одного: приносить пользу, быть допущенным в мир взрослых. Он с удовольствием обслужит покупателя, наклеит ярлычок на инструмент, отмотает проволоку, измерит трубы. В восемь с половиной лет он умеет отсчитать и дать покупателям сдачу – когда-то меня учил этому мой отец. Я словно снова вижу себя маленьким, только я притворялся, делал вид, что мне это нравится, а он, по-моему, нет. Вполне искренне произносит: «Благодарю за покупку, до свидания!» А когда покупатели, видя, что он еле-еле возвышается над прилавком, и то на цыпочках, спрашивают: «Что ты хочешь делать, когда вырастешь большой?» – отвечает: «То же самое». И с нетерпением поджидает из месяца в месяц, пока подрастет и дотянется до следующего ящика в стеллаже.
На первом году его жизни у нас с ним как-то выдалось несколько счастливых недель. Фабьена упала и сломала ногу, подвешивая на место какой-то инструмент, и я вставал рано утром покормить малыша из бутылочки. При тусклом свете ночника я рассказывал ему длинные истории про ковбоев. Ему, кажется, нравилось, он ждал продолжения, радовался, срыгивая молоко. Как только Фабьене сняли гипс, она снова взяла кормление в свои руки – я, по ее мнению, все делал не так. Плохо стерилизовал, мало скармливал, ребенок худел на глазах и т. д. Я по-прежнему валялся по утрам сколько хотел, было обидно, но ничего не попишешь – наверное, она права, и я действительно «ни на что в жизни не годился».
Когда Люсьен заговорил, я хотел опять начать рассказывать ему истории, но одним из первых его слов было: «Почему?» Каждое утро, как только его мать уходила в магазин, я тихонько вылезал из постели, шел в его комнату, перешагивал через барьер манежа, садился на корточки посреди всяких кубиков и начинал: «Жил-был на Дальнем Западе шериф по имени Уильям». – «А почему?»… Очень быстро я бросил эту затею.
– Жак, мадемуазель Туссен хочет посмотреть последний каталог автокосилок от «Массей-Фергюсона».
Среди детских бутылочек, косилок и больных улиток я пытаюсь сосредоточиться на мысли о Наиле. Сейчас без пяти девять. Наила все еще спит, и будет полный кошмар, если Фабьена так и обнаружит нас: голых, в обнимку, ее – такую молоденькую и меня – мертвого. Никаких сведений и никаких предчувствий относительно будущего у меня нет. Только смутный страх и уверенность, что необходимо срочно что-то сделать. Я пытаюсь удержать кадр: мое тело в трейлере в данный момент. Умоляю Наилу проснуться, потрясти меня, пощупать пульс, понять, что случилось. И, главное, не суетиться. Ты ничем мне не поможешь. Я люблю тебя. Проверь, чтобы не осталось никаких следов того, что ты здесь была, никаких следов этой ночи, убедись, что никто тебя не увидит, и беги, прошу тебя! Сделай это для меня. Не хватало только, чтобы эта заваруха коснулась тебя.
Но она спит, в полной отключке, и, похоже, дышит еще ровнее.
Ну вот, все мутится, Наила становится прозрачной, предметы тают – я снова улетаю. Куда: к улитке или в магазин? Нет. Теперь я на озере, на паруснике Жана-Ми. Ветер крепчает, надо быстро маневрировать, а я путаюсь в фалах, спотыкаюсь о якорь и пытаюсь выполнять поток указаний, который обрушивает на меня мой шкипер.
– Спускай, спускай парус, дубина! Жуткий ветер – нас снесет! Берегись – байдарка по правому борту! Поворот! Жак! Вот тупица! Байдарка, говорят тебе, по правому борту! Слышишь меня? Поворачивай!
Ничего я не слышу. Капюшон сполз мне на глаза, лицо все мокрое, меня трижды огрело по голове реей, байдарка полированного красного дерева надвигается вплотную – и мы в нее врезаемся.
– …температура в тени на рассвете: в Шамбери – минус четыре – ничего себе! – в Экс-ле-Бене чуть теплее – минус два, ну а в горах лучше не вылезать из-под одеяла…
Девять часов – включилось радио. Наила проснулась, вскакивает как встрепанная, наклоняется ко мне, целует в затылок и шепчет скороговоркой:
– Побежала, кофе пить уже некогда. Все было чудесно. Ну, спасибо!
Она вскакивает, влезает в трусики, джинсы, свитер.
– Хорошая новость для лыжников: снег в горах ожидается уже на высоте четырехсот метров. Давно пора. Верно же, Кристоф?
Наила выскользнула из прицепа и оставила меня наедине с «Радио Савойя». «Побежала»… вот так. Сам не знаю, рад я или огорчен. Кажется, всей душой желал, чтобы ее эта история со мной никак не коснулась, а теперь, когда мое желание исполнилось и я должен быть доволен, что волей случая у нее даже не испортилось настроение, мне жаль, что не она первая найдет меня мертвым. Мне бы хотелось услышать, как она заклинает меня вернуться, просит сказать, что я ее люблю… Утопить мою печаль в ее слезах… С Фабьеной я бы так легко не отделался. Получил бы по всей программе: и «скорую», и «реанимацию», и сердечный массаж, и электростимуляцию. И все это, разумеется, без толку. Удрать бы от этой скукотищи: медицинской возни, бумажных формальностей, дружной скорби… Уйти вместе с Наилой, увязаться за ней, тенью проскользнуть в ее комнатку под самой крышей на улице Верден. Посмотреть, как она принимает душ, как укладывает и закалывает свои непослушные курчавые волосы, надевает строгий костюм служащей турагентства и бежит на работу; сейчас усядется за стеклянной перегородкой, расцветет дежурной улыбкой, и пожалуйста – обворожительно-вежливая Наила готова со знанием дела распродать весь свет, это она-то, ничего, кроме Сарселя, Мюлуза да Экс-ле-Бена, в жизни своей не видавшая.
Но, похоже, оторваться от себя мне не дано. Три раза я приказывал себе: «Ухожу!» – но ничего не получалось. Значит, я обречен витать в трейлере, привязанный к своему телу, фигурально говоря, бродить из угла в угол и вытерпеть все: хладнокровную деловитость Фабьены, бурные переживания отца, серьезность Люсьена – представляю, как он встает со своего места посреди урока, после того как директор, этот надутый индюк, вдруг зашел в класс и торжественным тоном сообщил учительнице: «Лормо должен срочно идти домой – У него в семье случилось несчастье».
Я уж не говорю о двух завернутых в салфетку использованных презервативах и неоконченном, но, скажу не хвалясь, уже имеющем явное сходство с моделью портрете Наилы – то-то будут находки! Вот идиотизм! Умереть так нелепо! Было бы в тысячу раз лучше страдать, задыхаться, сколько угодно часов биться в агонии – но чтобы все было в ажуре, чтобы никому не дать повода вспоминать обо мне с обидой, горечью, издевкой. Вот он – мой ад. Наказание за грехи наступит, как только они начнут думать обо мне как о покойном. Я буду корчиться по их милости в муках совести и дожидаться, пока их мысли не займет что-нибудь другое. Пока они не забудут меня окончательно.
Мне так нужна твоя любовь, Наила. Устоит ли она в потоке грязи, которая на тебя польется?
– …влейте в кипящую смесь взбитые белки, снимите ее с водяной бани и продолжайте помешивать. Подайте на стол с бутылочкой бургундского.
– Спасибо, Кристоф. А теперь послушаем «Люблю тебя до гроба» – прямо разрывается сердце! – в исполнении Франсиса Кабреля, эту песню Патрик просит нас послать своей Карине, которую он нежно целует и просит не сердиться за последнюю встречу в «Алькателе», а затем – «Ваш гороскоп», у микрофона Шанталь.
– Ты все перепутала, Ванесса, гороскоп сначала.
– О, прошу прощения – гороскоп так гороскоп.
– Вроде бы ты вчера не пила, а послушать – как с бодуна.
– Гопля, говорит «Радио Савойя», слушайте нас на частоте девяносто два и три десятых килогерца, ваше радио – «Радио Савойя»!
Не хочу жаловаться, но если бы как-нибудь вырубить это чертово радио… А то от дикой мешанины из рекламы, жизнерадостных голосов, причитаний мадемуазель Туссен и страстей вокруг улитки можно спятить. Пытаюсь отключиться от этого мельтешения и сосредоточиться на каком-нибудь весомом эпизоде, вынырнуть в значительном моменте прошлого, обрести контроль над своей памятью, но все зря – так и продолжаю кружить на автопилоте.
– Овен: будьте осмотрительны в делах, возможны осложнения в личной жизни. Телец: у вас чешутся руки – вперед, ваш час настал…
И вдруг – я снова на паруснике, восемьдесят шестой год, мы с Жаном-Ми на озере Бурже.
– Ну давай же, обормот! Убирай кливер! Да ты совсем безрукий – не видишь, нас заносит в другую сторону?!
– «Расстались мы, конец любви…»
– Берегись – получишь реей по башке! Ну вот! Жак!!! Совсем, что ли, оборзел?!
– «Но оглянись и позови.
И спасены мы оба.
Мы оба, мы оба.
Люблю тебя до гроба…»
Мы снова боднули байдарку. В конце концов Жан-Ми сам спускает парус и бросает якорь, а я перегибаюсь через борт, чтобы оказать помощь потерпевшей, девушке со светлыми, перехваченными обручем волосами. Она честит меня на все корки.
– Жак, ты что, не видишь, сколько времени?! Сегодня вторник. Сейчас привезут товар от Жотюля, займись мадемуазель Туссен – ты обещал ей разобраться с трактором! Ох, все та же музыка!
Фабьена рывком выключает радиобудильник и выскакивает из трейлера. Тишина – какое счастье! Может, возымела действие моя молитва, чтобы кто-нибудь выключил музыку, и поэтому ворвалась Фабьена? Как бы то ни было, мадемуазель Туссен не должна ждать, и если через пять минут я не выйду, жена придет меня трясти. Остается ждать развития событий. Умереть в день поставок – это вполне в моем духе. Ладно, иду… Вот только побуду еще чуть-чуть на озере, все равно это ничего не изменит… Как настоящий спасатель прыгаю в волны, выуживаю наглотавшуюся воды Фабьену, подсаживаю ее на борт парусника. И только теперь оживает ощущение ее груди под моими ладонями. Нечего сказать – самое время загореться желанием к этой спортсменке, красавице из какого-нибудь фьорда, с бирюзово-синими, как у северной лайки, глазами. Никогда еще ни одна девушка так не поражала меня внешностью, а я даже не спросил, как ее зовут. Мы едва успели обменяться несколькими словами: «Вы что, совсем идиоты, где у вас глаза?!» – «А сами почему не свернули – при таком ветре веслами управлять легче». – «Как теперь догнать мою байдарку?» – «Подождите немножко, свернем наконец парус и пойдем на моторе». Да еще на прощание она бросила: «Все-таки спасибо. В другой раз будьте осторожнее». А потом влезла в байдарку и поплыла, ритмично взмахивая веслами. Восхищенный Жан-Ми тут же набросился на меня: «Что ты за кретин! Такая классная девочка, а ты – ноль эмоций! Так никогда и не отлипнешь от Анжелики – уже две недели, может, хватит? Теперь моя очередь».
В тот же вечер я снова увидел нашу утопленницу на конкурсе «Мисс Савойя» в зале «Казино». Она была одной из претенденток и выступала под номером 21. Фабьена Понше из Альбервиля, изучает коммерцию, любит природу, оперу, водный спорт. Сплошное вранье: она была уличной торговкой, не могла отличить тополь от ивы, Моцарта от Верди, а байдарка была ей нужна только затем, чтобы перед конкурсом подтянуть грудь и укрепить брюшной пресс. Мой отец, как уважаемый гражданин Экса, входил в жюри наряду с бароном Трибу из Общества спортивных игр, месье Пенсом – директором регионального отделения Госэнерго, четой Амбер-Аллер с местного радио, Жаном-Ми, представлявшим кондитерскую фабрику Дюмонсель, доктором Нолларом из водолечебницы и генеральшей Добре, на чьи деньги был обновлен занавес. Председательствующий месье Рюмийо, инженер-гидравлик, заместитель мэра по культуре, время от времени озабоченно наклонялся, чтобы выслушать мнение Бороневски, генерального директора шинного завода «Бора-Пнэ».
Я уже приготовился выслушать объявление результатов, как вдруг кто-то постучал в дверь, которую Фабьена неплотно закрыла.
– Тук-тук! – пропел слащавый, но боевитый голосок. – Вы уже встали, можно войти?
И в трейлер заглянула мадемуазель Туссен. Ну, знаете ли… Мне и в страшном сне не могло присниться, что она и сюда явится меня доставать.
– Поппей, поздоровайся с нашим другом Жаком, – приказала она свернувшемуся на дне корзинки псу.
Дряхлый пудель жалобно поскулил, уткнув нос в клетчатую подстилку.
– Так как же, Жак, вы хотели уточнить насчет моего мини-трактора? Э-эй! Проснитесь!
Я думал, что она передумает входить, увидев, что я голый, но она в тридцать девятом была на фронте сестрой милосердия и принялась бесцеремонно меня трясти.
– Да вставайте же! Вот лежебока! Не то что супруга – она-то с раннего утра за работой!
Тут пальцы ее застывают на моем плече, быстро скользят по руке к запястью и щупают пульс.
– Жак?
С неожиданной для своей кукольной комплекции силой она переворачивает меня. При виде же застывшего лица, приоткрытого рта, остекленевших глаз отшатывается, прикусывает кулачок и восклицает:
– Невероятно!
А затем прибавляет вполголоса, обращаясь к точке на смежной с туалетом стенке сантиметров на сорок выше моей головы:
– Не бойтесь, я тут. Вы умерли. Но все будет хорошо, я вам помогу. Сохраняйте спокойствие, расслабьте свое ментальное тело, вы в переходном состоянии, и вам здесь ничего не грозит. Я скоро вернусь.
Мадемуазель Туссен уходит. А мой дух, по-прежнему наблюдающий за происходящим в трейлере с высоты холодильника, остается смущенным и озадаченным. Последней турпоездкой, которую мадемуазель Туссен предприняла этим летом, было путешествие по Тибету, и вернулась она какой-то странноватой, в ореоле тайны, с глубокомысленной улыбкой и загадочным видом посвященной. Когда в начале декабря она заказывала у нас мини-трактор «Боленс», то поведала мне, что стала буддисткой. И прибавила, перегнувшись через прилавок и озираясь на других покупателей, профанов: «Только тс-с!» От неожиданности я сделал помарку в счете, который выписывал ей. Она, святоша каких мало, исполнявшая во время каждой воскресной мессы почетную роль чтицы второго отрывка из Писания, обличавшая фарисеев, брызгая в священном раже слюной в микрофон; она, флагман прихода, способная сбить весь хор своим суматошным кудахтаньем, неуемная активистка движения «Аксьон католик» и благотворительного кружка по вязанию теплых вещей для солдат стран, ведущих военные действия, – в силу какого внезапного озарения или внезапного затмения могла она обратиться в буддизм? Я представил ее себе в буфете водолечебницы завернутой в простыню, с бритой головой, разъясняющей, позванивая колокольчиками, курортникам их карму. Тогда это показалось мне ужасно смешным. Сейчас – уже не очень.
С минуты на минуту она вернется вместе с Фабьеной, и события начнут ускоренно развиваться. Мне уже будет некогда углубляться в воспоминания, придется иметь дело с данностью, то есть со своей смертью. Со всем ее антуражем, со всеми последствиями, с горем или безразличием, которые она вызовет. Пока никто не констатировал моей кончины, было еще позволительно сомневаться. Теперь же, когда я вижу свое обесточенное лицо с пустыми глазами, мне ясно, что меня больше нет на свете, что конечная дата моей жизни уже написана и скобки закрыты. Разлучат ли меня с телом или уложат в гроб и похоронят с ним вместе, я – это посмертное «я», которое сейчас тут витает, мысль, лишенная отклика, оторванная от поступка – уже не смогу действовать сам, а буду лишь испытывать на себе чужие действия. Ну, поехали… Пусть входят родственники, пусть начнется эта пытка: слушать их и быть не в состоянии с ними говорить.
Шум заезжающего во двор грузовика с товаром перекрывает возглас «Что?», трижды на разные лады повторенный пронзительно-надтреснутым, вороньим голосом. Это Альфонс. Лучший вариант.
Стук брошенной на плиточный пол лопаты, тяжелый топот до самого трейлера, и вот прицеп заходил ходуном – в него вламывается, едва не сорвав дверь, Альфонс. Рост – метр девяносто, возраст – восемьдесят лет, атлетическое сложение, лицо испанского гранда, на лоб надвинут берет, в сорок втором году он получил воинский орден Почетного легиона за то, что перебил голыми руками шестерых немецких солдат, охранявших какое-то укрепление в Тарантезе. «Это дело случая, – сказал Альфонс награждавшему его после Освобождения префекту. – Они были на своем месте, я – на своем, каждый выполнял свой долг, и все как-то само собой вышло. Я вполне мог очутиться на их месте. И ведь у них были семьи». Альфонс – лучший человек, какого мне довелось встретить на земле. Пятнадцать лет назад, когда его провожали на пенсию, он угостил аперитивом весь персонал скобяной лавки, веселились до полуночи, Альфонс развернул подарки, был страшно доволен, всех благодарил, а на следующее утро в шесть часов был на своем месте. Отослать его ни у кого не хватило духу. Он был и остался нашим самым первым – в смысле «самым старым» – продавцом, но главная его роль в нашей семье – бессменная нянька. Когда-то его нанял мой дед, которого он спас во время Сопротивления, и Альфонс вырастил нас всех – моего отца, мою сестру, моего сына и меня самого, – каждому в свой черед говоря одни и те же слова, читая те же книжки, с каждым играя в те же игры и путая нас всех в памяти, в которой только и есть, что клан Лормо да стихи его названного предка. В далеком 1915 году его младенцем подобрали на скамейке в мемориальном парке Ламартина («Альфонс де, член Французской академии, 1790-1869. От города Экса с благодарностью») на берегу исторического озера, где поэт, влюбленный в лечившуюся на местных водах чахоточную деву, умолял время остановить свой бег; найденыша приняли монахини и окрестили его Альфонсом Озерэ.
Альфонс упал около моего тела на колени и на мгновение застыл, прижав голову к груди – послушать, не бьется ли сердце, потом встал, перекрестился и, тихо повторяя мое имя, бережно опустил мне трясущимся заскорузлым пальцем правое и левое веко. Слезы наполнили его глаза и потекли по щекам вдоль глубоких зигзагов морщин. Он стал читать «Ave», сбиваясь от волнения на свои любимые александрийские стихи. Мне от его молитв становится очень хорошо, не столько от слов, сколько от мелодии, успокоительной, монотонной. Альфонс невольно впадает в ритм колыбельных, которые он мне когда-то пел. Без лишних причитаний он охватил всю мою жизнь одной мелодией, которой, как он думал, провожал меня на небо. В городе над ним смеются. Он местный дурачок, забавный и безобидный.
– Двадцать пятая страница, – вздыхает он, взглянув на книгу, над которой я заснул. – Надеюсь, тебе хоть было интересно…
Второй явилась вытянувшаяся в струну Фабьена; ее, без всякой к тому нужды, поддерживала мадемуазель Туссен.
– Осторожно, дорогая, тут ступенька.
– Да пустите меня.
Моя жена делает несколько шагов к кушетке. Она реагирует в точности так, как я ожидал. Не выпуская из руки накладную на обогреватели от Жотюля, секунду смотрит на меня, сверкая глазами и сжав губы, а потом, резко отстранив мадемуазель Туссен, которая мячиком отлетает к самому холодильнику, срывается с места – поднимает с пола перину, отталкивает Альфонса:
– Накройте его, и нужно побольше воздуху, окно, что ли, распахните! И быстро вызывайте «реанимацию» и доктора Мейлана – номер записан около кассы.
Альфонс выбегает, прихватив с собой мадемуазель Туссен. Он ничуть не обольщается, но, если Фабьене хочется еще хоть сколько-нибудь верить, что я жив, он готов поднять всех на ноги, чтобы суета на какое-то время отодвинула страшную правду.
Я остаюсь наедине со своей вдовой. И что же – она отворачивается и вцепляется обеими руками в раковину. Не обронив ни слезинки, трижды встряхивает головой, кусая побелевшие губы и не отрывая глаз от неоконченного холста на мольберте. Вдруг хватает флакон лимонной жидкости, которой я мыл посуду, если ужинал у себя, поворачивается и выплескивает на мое тело с выкриком:
– Кретин!
И я нахожу это надгробное слово вполне подходящим.
Врач поставил диагноз: кровоизлияние в мозг. И прибавил, в утешение родным, что я не страдал. Однако Фабьена, пристрастившаяся, с тех пор как Люсьен болел свинкой, часами читать медицинскую энциклопедию, тут же разъяснила ему, что разрыв мозгового сосуда означает, что у меня была гипертония. Молодой врач – в прошлом году он купил у меня одну картину для украшения своей приемной – пытается возразить, что у меня всегда было нормальное давление, но тщетно: Фабьена уже зациклилась и запальчиво, будто это его вина, восклицает, что гипертония – наследственная болезнь. Бедный Люсьен. Мало того, что он губит свое детство, часами просиживая перед экраном за видеоиграми, так теперь еще мать будет по десять раз в день набрасываться на него с тонометром, обматывать руку манжетой, надувать манжету грушей и, насупясь, следить за стрелкой. Мысль о том, что ее сын с восьми с половиной лет обречен сидеть на бессолевой диете, удесятеряет ее ярость, которая еще не уступила место печали. Врач, не споря, выписывает справку о смерти и, слегка озадаченный, уходит.
Во дворе он сталкивается с моим отцом – тот бежит с безумным видом, выпучив глаза, в надетой поверх пижамы и застегнутой не на те пуговицы вязаной кофте со свежим кофейным потеком; рядом с ним поспешает Альфонс Озерэ, неся перед собой, как олимпийский факел, на вытянутой руке мобильный телефон… Позвольте, но я, выходит, очутился снаружи. И сам не заметил как. Мое сознание последовало за доктором Мейланом, и вот я под мелким дождиком на улице, на уровне вывески, между надписью «Лормо – прием поставок» на внешней стене дома и стареньким отцовским «ситроеном» с распахнутой дверцей, который медленно оседает на подвесках. Значит, я без всякого усилия воли отдалился от своего тела, устремившись навстречу отцу или желая, движимый остаточным инстинктом вежливости, проводить молодого доктора, который осматривал мои останки с явным волнением и сочувствием. Но задерживаться на этом феномене у меня не остается времени – отец и Альфонс врываются в трейлер, и мое поле зрения переносится вместе с ними назад.
– Жаки! – отчаянно вскрикивает папа. Он не звал меня этим именем добрых двадцать лет. И бросается на кушетку поперек моего тела.
– Ни к чему не прикасайтесь, месье Луи! – ужасается Альфонс. – Как же отпечатки! Сейчас приедет полиция – я им сообщил, как только Туссен мне сказала… о, какое горе, мадам Фабьена! Клянусь, я найду негодяя, который это сделал, и оторву ему голову.
Я понимаю Альфонса. Сначала он подыграл Фабьене, будто меня еще можно спасти, а теперь считает своим долгом подкинуть версию о том, что меня убил какой-то бродяга, хочет таким образом немного отвести удар, отвлечь несчастную женщину поисками преступника.
– У него кровоизлияние в мозг, – говорит Фабьена, но тон ее не соответствует смыслу слов.
– Это они так говорят, – многозначительно качает головой Альфонс.
Он лихорадочно озирается, ища какие-нибудь признаки взлома, улики. Взгляд его падает на бумажную салфетку с завернутыми в нее влажными чехольчиками, и, мгновенно сориентировавшись, он наступает на нее ногой.
– Жаки, ответь мне, скажи что-нибудь… – рыдает отец и трясет меня.
– Он не может, – с предельным тактом вступается за меня Альфонс, положив руку отцу на плечо. – Не может ничего сказать, но это была легкая смерть.
Ты прав, Альфонс. И это лучшая эпитафия, какую я мог бы пожелать. Мне не на что жаловаться, не о чем сожалеть, разве что об огорчении, которое я всем доставил, от того же, что более всего терзало меня и омрачало мою смерть, ты, Альфонс, меня избавил, накрыв своей широкой подошвой следы любовной ночи. Мне была нестерпима мысль, что могут подумать, будто я умер в объятиях Наилы, и будут ее в этом обвинять.
Моя тревога растворилась, сменившись несказанным облегчением, в трейлере вдруг разлился покой, словно свершившееся наконец окончательно проявилось.
Не иначе как кто-то управляет иронией судьбы, совпадениями, странными повторами. Когда-то Альфонс давал мне первые бутылочки с молоком, учил делать первые шаги, подарил мне первую коробку красок. Он опекал меня, когда я только вступал в жизнь, потому что отец, так мечтавший иметь сына, считал себя убийцей моей матери и был занят тем, что прокручивал любительские фильмы, где она была снята. И сегодня именно Альфонс облегчает мое вступление в иной мир, проворно наклоняясь и подбирая бумажный комок, сделав вид, что он выпал у него из кармана, куда он его и засовывает. Тут он вспоминает о мобильном телефоне, который все еще держит в руке:
– Ох, извините! Это Брижит!
Фабьена берет трубку, загробным голосом говорит в нее «алло», подтверждает моей сестре, уехавшей давать концерт в Бар-ле-Дюк, что я действительно скончался, и прекращает разговор, сославшись на то, что пришла полиция.
Вежливый жест – «под козырек», соболезнования, блокнот, вопросы, ответы. Ничего интересного – я заранее знаю, о чем они будут спрашивать. Самого молодого, видимо, солдата срочной службы, с веснушчатым и угреватым лицом, вырвало мне на колени – он слишком поздно попытался зажать ладонью рот. («Простите его, мадам Лормо, это первый труп, который он видит».) Этот инцидент ускоряет дознание и заключение. Смерть от естественной причины – тело поступает в распоряжение родственников.
И вдруг я отключился. Словно ухнул в черную дыру. Мне показалось, что на секунду, но оказалось, что полицейских уже нет. Я прозевал их уход. Где же я был? Что произошло? Меня захлестнул страх. Только я начал привыкать, осваиваться в новом состоянии, как вдруг это леденящее выпадение сознания. Нематериальное существование, уже начавшее казаться естественным, неприятные ощущения, связанные с отрывом от жизни, сменились чувством вечности, и вот снова все поплыло. Две, три или пять минут пропали, для меня их просто не было, а я-то уж решил, что эти заносы в прошлое кончились и я опять участвую в действиях живых, в текущем времени. Если это первые неполадки, предвещающие капитальную аварию, я предпочел бы, чтобы мысль пресеклась раз и навсегда. Боже мой, мама, дедушка, если вы меня слышите, избавьте меня от постепенного угасания. Я хочу сохранить ясность. Это все, что у меня осталось.
У меня из рук вынули книгу, помыли мне колени, завернули меня в простыню и унесли. Я хотел бы остаться в трейлере, но, очевидно, должен следовать за своими останками, точно верный пес за хозяином: может, через несколько дней я окончательно, включая душу и мысли, умру на мраморной плите в нашем семейном склепе, как мамин Лабрадор, не пожелавший, вслед за отцом, принять меня, сдох на ее могиле?
– Осторожно, не заденьте! – суетится Альфонс, когда меня проносят через застекленную дверь с надписью «Запасной выход», выходящую на задний двор магазина, к бассейну и складам.
Теперь, когда я спокоен за Наилу, мне хотелось бы очутиться рядом с ней, когда она узнает новость. Сухое раздражение Фабьены мне тягостно, ее мысли пачкают меня. Я слишком хорошо знаю, что означает моя смерть для моей жены. Засветило наследство.
– Он читал «Грациеллу», – сокрушается Альфонс, с виноватым видом потрясая моей книжкой, и, поскольку никто его не понял, уточняет: – Роман Ламартина!
– Ну и что? – нетерпеливо спрашивает Фабьена, делая знак продавцам, чтобы они не впускали клиентов.
– Это я ему подарил.
– Он умер не от этого, – обрывает его она, наклоняясь и подбирая водный фильтр, который сбили мои ноги.
– Так и не узнает, чем там кончилось, – вздыхает Альфонс и засовывает книгу в тот же карман, где лежат презервативы.
Подумай обо мне, Наила. Обо мне живом. Постарайся притянуть меня. Здесь мне сейчас больше нечего делать. Не хочу видеть, что будет дальше.
Но мне не удается довести до отчетливости ни одного образа, ни одного воспоминания. Я как будто выдуваю мыльные пузыри, которые лопаются, только хочешь к ним прикоснуться. Напрасно я напоминаю себе день за днем всю историю нашей любви. Такое впечатление, что она мне больше не принадлежит и я не имею на нее никакого права. Может, время счастливых воспоминаний еще не настало и я должен выдержать траур?
– Кто жизнь мою прервал? Кто я? Кем должен стать? – вопрошает за меня Альфонс, сопровождая меня вверх по лестнице, понурив голову.
– Не сделан первый шаг – уж время умирать…
– Отвяжись от него, – бурчит кладовщик, который держит меня за щиколотки.
Старик послушно стихает, но продолжает декламировать, беззвучно шевеля губами. Если я не ошибаюсь, это «Бессмертие».
С удивлением обнаруживаю, что понимаю по губам или помню наизусть эти стихи, которые слышал в детстве, но был уверен, что они давно забылись, затерялись, стерлись. Правда, теперь они меня непосредственно касаются.
Их двое, оба немногословны, у обоих постные и соболезнующие рожи, профессиональные ухватки. Они деловито осматривают меня, перебрасываются какими-то цифрами, непонятными формулами, фармацевтическими терминами, соглашаются друг с другом или приходят к согласию после спора. Открывается чемоданчик, в нем флаконы, шприцы, ампулы.
Фабьена выходит из комнаты, затворив за собой дверь. Погребальных дел мастера из фирмы братьев Бюньяр с улицы Бен разминают пальцы, хрустят суставами и наконец приступают к работе. Пробил их час.
Не хочу нагнетать мрачность, но туалет покойника – зрелище, смиряющее гордость. Пока представители «Бюньяр бразерс» изощрялись в своем искусстве – инъекции, макияж, – дабы привести меня в презентабельный вид, я, если можно так сказать, отвел глаза. Теперь я понял, чем было вызвано недавнее затмение. Когда около меня происходит нечто малосимпатичное, я способен вырубаться – неоценимое свойство, которым я, кажется, уже научился пользоваться. Достаточно как следует сосредоточиться на одном из доступных мне воспоминаний, чтобы перестать видеть то, чему подвергается мое тело. Когда юный полицейский во время дознания наблевал мне на колени, я не успел ни о чем подумать и потому провалился в черную дыру. На этот раз, наученный опытом и основательно искушенный в лечении улиток, я решаю переждать в этом убежище, пока меня не кончат прихорашивать. Улитка, косилки, байдарка – на настоящий момент мои спасательные ресурсы ограничиваются этим небогатым ассортиментом. Но я надеюсь со временем его расширить. Не торопиться, постепенно набираться знаний, осваивать возможности, продвигаться потихоньку, отрабатывать гаммы.
Я приземлился в Пьеррэ, в нашем саду, но гортензии стоят голые, большая соседская ива исчезла – это другое время года, да и год не тот. Дедушка с бабушкой уже переехали на Юг, сестра вышла замуж, для двоих дом стал велик, и отец его продает. Новый владелец клянется, что оставит все как есть – никаких переделок! – что дом ему нравится и так, обшарпанный, заросший плющом, осевший, плохо отапливаемый. «Ей-богу!» – повторяет он через каждые три фразы. Папа пожимает ему руку. Я, обливаясь слезами, обхожу на прощание все комнаты, в последний раз зажигаю и гашу везде свет, закрываю все двери, перекрестив каждую, – благодарю эти стены и прошу у них прощения. Новый хозяин увидел, что я делаю, улыбнулся и снова обещал, что все останется в целости и сохранности. Через полгода дом будет снесен, а от сада останется только цифра на плане – номер земельного участка.
Мне навсегда запала в память влажная тишина большого жилища, все его уголки, все краски, запахи прошлогодних яблок и задутых свечей. И теперь все эти разрозненные ощущения собрались воедино, чтобы воссоздать дом и все, что у меня с ним связано. Мертвые обретаются в эмоциях; разумеется, я не имею оснований говорить во множественном числе, но это открытие, которое подтверждается каждым новым воспоминанием, для меня великое счастье, и я хотел бы разделить его с другими.
Вернувшись, я с трудом себя узнал. Расфуфыренный, при галстуке, свеженький, с нарумяненными щеками и чуть подведенными глазами, мой труп смахивал на нотариуса, явившегося в контору после веселой ночи в «голубом» кабаре. Художники, создавшие этот шедевр, довольные собой, с достоинством складывали инструменты.
За стеной слышен голос агента похоронной фирмы – он пришел утрясти программу увеселений. Шелестят страницы каталогов, обсуждается цвет атласной обивки, форма ручек и сорт дерева. Месье отличался хорошим вкусом – ему подойдет полированный дуб. Наша последняя модель – «Версаль», медные или латунные ручки, внутри обивка из гофрированного шелка, цвет на выбор, свинцовая прослойка – пожизненная гарантия! Почему-то эта гарантия вдруг выводит из себя отца, он обрывает гроботорговца и вопит, что я прекрасно обойдусь сосновым гробом стандартного размера, который продается в магазине Леклерка, а червям и подавно все равно, гоните в шею этого гнусного обиралу с его «пожизненной гарантией» и оставьте моего сына в покое, все эти выкрутасы мне его не вернут. Фабьена пытается его унять, уводит на кухню, потом догоняет на лестнице агента, который вращает глазищами, как в немом кино, просит его понять и извинить убитого горем отца и заказывает по сходной цене модель «Трианон», без свинца, предусмотренную для жертв массовых катастроф: крушений кораблей и самолетов, пожаров и прочее.
Любопытная штука: отцовское горе меня обрадовало и сблизило нас с ним так, как не случалось уже лет десять. Мне хотелось сказать ему спасибо за это негодование, за Леклерка и «пожизненную гарантию», – сказать, что на его месте я заорал бы точно так же, что я его люблю таким, какой он есть, и что он заслужил пережить меня. Как ужасно, что я больше не могу ни с кем общаться. Я бы так хотел поговорить с папой, с Альфонсом, с сестрой, которая сейчас, наверное, мчится через Вогезы на мотоцикле, чтобы успеть к нашей последней встрече… В приливе оптимизма утешаю себя тем, что это вопрос времени: сейчас острая скорбь мешает им услышать меня, слишком свежа потеря, а горе – плохой проводник, и мои сигналы тонут в помехах разливанного моря слез. Когда же они свыкнутся с тем, что я мертв, то, наверное, смогут поймать мою волну. Когда у них уже не будет моего тела, застывшего в своем последнем земном облике, облике этого безмолвного нотариуса с кислой улыбкой, они будут вынуждены сделать усилие, чтобы воскресить меня в памяти и воображении, – вот тогда-то я смогу возобновить контакт. Как только надо мной сомкнется земля, я оживу в них. Так я надеюсь.
А пока не стоит тратить попусту силы, будем просто наблюдать за ними, ничего не упуская. Хватит того, что я проспал свою агонию, больше я ничего лишаться не хочу. У меня странное чувство, что в некое заранее назначенное место в потустороннем мире, куда теперь меня еще не пускают – держат в ожидании, – мне необходимо прибыть полноценным. Приведя в порядок всю жизнь, пересмотрев и разобрав все воспоминания. Взвесив все свои поступки и их следствия, все, что я после себя оставил. Вероятно, я нахожусь в неком преддверии, где положено разложить свои вещи, помыться, переодеться – приготовиться к решающему кону… Вот только неприятно, когда не знаешь, чего именно от тебя ждут. Или ничего не ждут? Просто позабыли в прихожей.
Как бы то ни было, но отныне, утратив физическое бытие, я присутствую в мире лишь постольку, поскольку обо мне думают живые люди. Их мысли и поступки имеют огромное влияние на мое настроение. Так, яростная вспышка отца доставила мне радость, а практичность Фабьены, сторговавшей для меня гроб по себестоимости, наоборот, огорчила – мне не пришлось насладиться ее растерянностью, на что я мог вполне законно рассчитывать. Пусть бы моя смерть хоть немного выбила ее из колеи. Застигла врасплох. Но Фабьена всегда мгновенно применялась к обстановке и успевала все сделать загодя. Наши новенькие визитки прислали из типографии за десять дней до свадьбы.
Пока на меня наводили марафет, Фабьена методично всех обзванивала. Поставила в известность мэтра Сонна, банк, страховое агентство, мэрию, ресторан, священника и главного редактора «Дофине либере». Она нашла верный тон – теперь ее печаль звучит вполне натурально. Наблюдая ее бурную деятельность, я как будто вместе с ней открываю одну за другой новые перспективы, вижу, как она осваивается, проникается уверенностью, с каждым шагом все прочнее утверждается в резко изменившемся положении, и у меня возникает мысль – та же, что и у нее, только она еще не решается ее сформулировать, – что, умерев, я наконец-то сделал что-то толковое. Говорю это без всякого сарказма: я искренне рад за Фабьену, и мне действительно хорошо там, где я пребываю. Мы оба нашли свои амплуа: мне всегда как нельзя более подходила роль новопреставленного, так же как Фабьене – правопреемницы.
Очень скоро она уже выправила доверенности, свидетельство о смерти и принялась разбирать мои бумаги. Ну и, разумеется, наткнулась на кассету. С надписью «Папа». Нет, Фабьена, нет, это не то, что можно подумать! Положи ее обратно в ящик, или выбрось, или послушай – и поймешь… Только, ради Бога, не давай ему…
Фабьена нахмурилась. Догадываюсь, что ей пришло в голову. Она быстро вышла из комнаты и пошла на кухню к отцу. Он сидит там перед стиральной машиной и смотрит в окошечко, как крутится белье. Идет полоскание, мелькают мои рубашки, носки, безнадежно заляпанные краской штаны.
Ни слова не говоря, Фабьена протягивает ему кассету. Папа отрывает взгляд от карусели моей последней стирки. Увидев надпись, он грузно оседает на стуле. Каким же надо быть ослом, чтобы хранить такую запись! Надо всегда иметь в виду неожиданности, не оставлять ничего валяться, а все не предназначенное для чужих глаз уничтожать, как будто готовишься умереть завтра. Фабьена стоит неподвижно, не нарушая зависшей паузы между полосканием и отжимом, она похожа на вестника, который знает, что выполнил что-то очень важное, но смысла своей миссии не понимает.
Отец берет кассету дрожащими пальцами. Что это: мои последние слова, исповедь, посмертная просьба о прощении, – в любом случае нечто, заставляющее усомниться в «естественности» моей смерти. Я читаю вопрос в их глазах. Фабьена делает движение в сторону шкафчика над морозилкой, где она держит отравленное зерно, чтобы морить крыс на чердаке. Но оба тут же отвергают подобное предположение. Это на меня не похоже. Да и с чего бы мне было обрывать свою жизнь, которая, как они полагают, состояла из одних удовольствий!
– Ведь он был счастлив, – с упреком в голосе говорит папа. Ответом ему служит грохот начавшегося отжима. Я бы не возражал, если бы такого рода штучки, такую достойную домового иронию принимали за «знаки», за проявления моего «духа». Возможно, со временем так и будет. Фабьена, со своей неизменной логикой, произносит по видимости убеждающим, а по сути желчным тоном:
– Если бы он решил покончить с собой, то сначала дописал бы свою картину.
Отец кивает, до обидного легко соглашаясь с ее доводом, – никто не считается с моим душевным состоянием, за мной даже не признают права на неадекватность, на долго подавляемое и внезапно прорвавшееся отчаяние. Все убеждены, что видят меня насквозь. Я и не думал, что настолько одинок.
Слова Фабьены заставили меня вспомнить о недописанном портрете Наилы на мольберте в трейлере. На холсте – в обрамлении оконного переплета – выходящая из воды на берег обнаженная Наила. Называться это должно было «Забытое окно». Что теперь станется с картиной? Я не уверен, что моя вдова захочет исполнить мою последнюю волю, которую узнает из завещания. И не уверен, что я сам по-прежнему этого хочу. Мне уже не кажется удачной идея вручить Наиле ее портрет в качестве прощального подарка. Расплывчатость, незавершенность изображения может отразиться и на памяти обо мне, и на ее ко мне отношении. Я, без конца твердивший, что хочу ее понять, не сумел даже закончить ее портрет…
Отец смотрит на кассету другими глазами. Раз это не крик отчаяния – для которого не было причин, – значит, запись как-то связана с установившимся между нами в последние годы молчанием. Палец его стирает пыль с этикетки. Ход его мысли прост: он решил, что я когда-то записал на пленку то, чего не осмеливался сказать ему, и эта запись завалялась в ящике. Бедный папа. Когда он узнает…
На пороге кухни появляются двое моих гримеров с удрученным выражением выполненного долга на физиономиях. Скорбно опущенные веки означают, что я готов.
Опираясь на стиральную машину, папа встает со стула, еще раз смотрит на кассету и прячет ее в карман – на потом.
Я покоюсь, вытянув ноги носками врозь, с восковым лицом, сложив руки на пупке, обряженный в темно-серый костюм, который был на мне в день свадьбы. Благопристойная полуулыбка на губах – фирменное изделие братьев Бюньяр, ритуальных визажистов с улицы Бен. Вокруг меня белые розы, язычки свечей, стоит приторный запах припудренной мертвечины. Я готов принимать визитеров.
Мой гроб установлен в гостевой комнате. Ради этого из нее вынесли лошадку-качалку, коляску, манеж и другие вещи, из которых вырос наш сын и которые Фабьена когда-то сложила здесь на случай появления второго ребенка – все равно гостей у нас не водилось.
Сквозь спущенные ярко-красные жалюзи комнату заливает дрожащий неоновый свет от вывески магазина «Топ-Спорт», где я обычно покупал плавки, сапоги для верховой езды и лыжные ботинки. Еще в сентябре мы поссорились с владельцами из-за этой несносной дребедени: Фабьена утверждала, что вывеска создает помехи, которые заставляют мигать нашу собственную рекламу. Соседи из «Топ-Спорта» наверняка не придут посидеть у моего смертного одра. А жаль. Нам есть что вспомнить.
Приближаются чьи-то шаги, открывается дверь. Первый посетитель, Альфонс, распахивает створку окна и бухается на колени у изголовья гроба.
– Я ей сказал, – быстро-быстро шепчет он мне прямо в ухо. – Она выплакала все слезы, я за тебя порадовался. Быть любимым – прекрасно, только этого не поймешь, пока не помрешь. Взять, например, Жюли и Ламартина. Если бы она осталась жива, они приходили бы к озеру да сидели бы себе на лавочке, как пара старичков, и не стал бы он о ней писать. А еще я ей сказал, пусть не волнуется – ну, ты знаешь насчет чего, – ничего не обнаружилось, это дело у меня в кармане. Прийти она не может из уважения к семейству, но велела тебя поцеловать и открыть окно: по их вере считается, что так твоей душе будет легче улететь… Аминь, – закончил он громче, так как на пороге появляется Фабьена.
Прежде чем встать с колен, Альфонс запечатлевает на моем лбу поцелуй, от которого по всему кадру пробегает дрожь. Во мне поднимается волна чувств – комната сжимается, свечи опрокидываются…
– Вы с ума сошли! – кричит Фабьена. – Уже без трех минут! Закройте немедленно окно!
Я углядел ее, когда шел по тротуару мимо витрины агентства: вот программа кругосветки, вот вид Бразилии, а вот… С зажатой щекой телефонной трубкой, она, оттолкнувшись, скользила на стуле на колесиках сначала в одну сторону – взять какую-то брошюрку, потом в другую – дать ее сидящему перед ней клиенту, что-то говорила и указывала на фотографии, но слов я не слышал. Давно можно было перейти дорогу – машины на перекрестке, к которому я повернулся спиной, остановились на красный свет, – но я застыл перед витриной с батоном хлеба под мышкой. Проплывая от телефона к клиенту и обратно в этом залитом искусственным светом аквариуме, она казалась каким-то очень отчетливым, но в то же время нереальным, далеким, призрачным видением. Не знаю, из-за чего возникало такое впечатление. Возможно, из-за несоответствия безмятежного выражения ее лица и энергичных жестов; безотрадного взгляда и видимо оживленной речи, улыбки, сопровождающей каждую фразу. Я неотрывно смотрел на эту подвижную неподвижность, на выбившуюся из гладкого шиньона вьющуюся прядь, меня заворожили эти печальные, не видящие меня глаза. От волнения у меня перехватило горло, пальцы хватались за несуществующую кисть, чтобы запечатлеть эту каплю в зыбком море, неожиданный островок покоя, эту молоденькую девушку родом из дальних краев, продававшую сказочную экзотику с невыразимо скорбным видом.
В это время загорелся зеленый свет, и машины, сигналя, двинулись вперед – как мне показалось, прямо в витрину. Я отскочил, как будто стоял посреди дороги.
Я вернулся туда на другой день и через день. Разглядывал девушку, прилипнув к витрине и делая вид, будто интересуюсь Бразилией, а потом до самого вечера носил в себе ее образ, пытался перенести на полотно колыхание ее груди под белой блузкой, когда она порывисто поворачивалась на стуле, жест, которым она походя пыталась заправить непокорный локон. Все эти наброски никуда не годились, но ее дежурная улыбка вставала передо мной, как только я закрывал глаза. Я тоже улыбался, за столом, глядя в тарелку. «Что такое?» – спрашивала Фабьена. «Ничего», – отвечал я и снова утыкался в суп, где среди вермишелин скользил стул на колесиках.
Наконец настал день, когда я решился толкнуть дверь. Вошел – и натолкнулся на смешливую искорку в ее глазах: меня засекли.
– Добрый день. Вы хотели бы поехать в Бразилию? – спросила Наила, указывая на фото в витрине.
Голос у нее был мягкий и неожиданно лукавый. Последние слова она снабдила все той же казенно-лучезарной улыбкой, я ответил «да». Она понимающе кивнула, на миг сплела пальцы под подбородком, потом с бессильным вздохом развела руками и показала на красовавшийся слева от нее цветок в горшке:
– В таком случае вам придется обратиться к моей коллеге – заграничными путешествиями занимается она.
Бразилия исчезла с лица земли, и я увидел рыжую девицу, с плотоядным видом поджидавшую меня под сенью фикуса.
– Увы, – шепнула Наила, снова отпустив мне улыбку. Огненная толстуха забросала меня вопросами, на которые я отвечал как придется, не вникая в их смысл. Когда же наконец я смог перевести дух, то увидел, что она, озабоченно нахмурив лоб, роется в каталоге.
– Боюсь, что на вечерний воскресный рейс в Рио льготный тариф не распространяется. На всякий случай сейчас уточню по каталогу «Греза-тур», но, по-моему, это исключено…
Я явно стал в ее глазах не столь заманчивой добычей. Тут уж я принялся ставить перед ней все мыслимые проблемы, отвергать все варианты решения, торговаться, обсуждать условия контракта, изобретать самые дурацкие места посещений, требовать луну с неба и оспаривать ее компетентность. Когда стало окончательно ясно, что мы не сходимся во взглядах на Бразилию и несчастная была на волосок от того, чтобы запустить мне в голову свой каталог грез на осенне-зимний сезон, я посмотрел на часы и сказал, что, пожалуй, зайду завтра.
Я вышел, бросив взгляд на Наилу, а она проводила меня глазами с таким сочувствующим видом, что я не мог забыть его до следующего утра.
На другой день, переступив порог турагентства, я пошел прямиком к фикусу и уселся напротив рыжей толстухи. Она посмотрела на меня без улыбки и очень значительно дрогнувшим голосом сообщила, что туристическая фирма согласилась в виде исключения предоставить мне льготный тариф на воскресный рейс при условии, что я не буду требовать никаких изменений в маршруте. Я ответил, что все обдумал и решил вместо Бразилии съездить в Коррез. Она резко захлопнула каталог, сказала:
– Займись этим господином, Наила, – и стала сворачивать буклеты с картинками карнавала в Рио, проклиная сквозь зубы неотесанных пентюхов.
Вскоре я повадился приходить в агентство через день, в обеденное время, когда напарница Наилы уходила, а она оставалась дежурить и перекусывала бутербродом. Я заигрывал с Наилой во всех городах и весях метрополии, она увлекала меня в разные концы: из Брив-ла-Гайярда в Мон-де-Марсан, из Мен-и-Луары в Камарг, из окопов Вердена в ущелья Тарна. Мы обсуждали достоинства предложенных тем или иным туром ресторанов, перепархивали с экспресса на экспресс, выбирали по фотографиям домики в живописных уголках. На карте нашей Страны Нежности были обозначены винные подвалы и летние трассы, памятники городской архитектуры и колоритные деревушки… Мы обговаривали часы отправления и прибытия, словно назначали свидания; произносили «входит в стоимость путевки», словно давали обещания; так подробно изучали маршруты экскурсий, что они заменяли нам общие воспоминания. Послушный ее голосу, я пересекал Ледяное море, купался в бухте Пор-Миу, плыл по каналу из Роны в Рейн; нарочно запутывался в железнодорожной сети и в системе шлюзов, призывая ее на помощь, и мучительно желал чтобы она расслышала то, чего я не осмеливался произнести, когда спрашивал, где больше комарья: в Пуату или в Сент-Мари-де-ла-Мер.
Я, до женитьбы менявший подружек каждые два-три месяца, отчаянно робел перед этой девчонкой, косившейся на мое обручальное кольцо. Для смелости я попытался взбодриться в молодежных клубах и толчее автовокзалов и стал уносить с собой килограммы брошюр, которые ночью, в трейлере, обнюхивал, надеясь уловить ее ванильный запах, пока не засыпал среди ларзакских овец и меркантурских серн.
Наила неутомимо подбирала мне вариант за вариантом, я же каждый раз отвергал их в последнюю минуту и задавал ей новые координаты. Я даже подписал страховку на случай возврата, идеальное транспортное средство для такого путешественника на месте, как я. Наила включилась в игру и исполняла свою роль со старанием и удовольствием. Поначалу это удовольствие лишь на одну треть объяснялось интересом ко мне, а на две остальные – затаенным ликованием, которое наполняло ее при появлении коллеги, фикусной барышни. Неделю за неделей каждый день, возвращаясь с обеда, она заставала нас в очередном воображаемом путешествии; мы преодолевали сотни километров, чтобы уменьшить разделявшее нас, сидящих рядом, расстояние, она же тихо бесилась.
Наконец как-то в понедельник я решился… Это было в Шалон-сюр-Сон, где надо было ждать три часа, прежде чем пересесть в автобус на Лон-ле-Сонье. Я шепотом спросил ее, свободна ли она вечером. Она с сожалением пожала плечами, ткнула в расписание и сказала, что нам не хватит времени. Я истолковал это как формальный отказ и ответил на него трехнедельным отсутствием. Застыв на полдороге, тоскуя и упиваясь своей тоской, я не знал, что сильнее: печаль от того, что я не вижу Наилу, или радость от того, что, не видя ее, тоскую и просиживаю ночами перед мольбертом, безуспешно пытаясь ее изобразить.
– Да трахни ты ее, – сказала мне Фабьена как-то в воскресенье, когда мы выходили из церкви. На улице шел дождь.
– Что-что?
– Трахни, говорю, ту бабу, которая застряла у тебя в голове. По крайней мере перестанешь на меня огрызаться, натыкаться на фонари, извиняться перед ними да петь Брассанса во время мессы.
Первый раз в жизни я был на грани того, чтобы обмануть жену, но она ухитрилась и тут мне подгадить.
Спустя три дня я нашел в почтовом ящике открытку с видом на Мон-Сен-Мишель, отправленную из отделения у нас на углу. На ней бледно-синей ручкой наклонным почерком было написано: «Открылась прямая линия Эпиналь – Шатору». Назавтра, когда я толкнул дверь агентства, Наила обратила на меня уже готовую улыбку, которую надела для разговора с семейством, ехавшим по тарифу «киви». Их заявка на билеты томилась в ожидании под мелодию из «Времен года» Вивальди, которую наигрывал коммутатор железнодорожной компании. «Добрый день, месье. Что бы вы хотели?» «Меня интересует Клермон-Ферран», – ответил я. «Попробуем что-нибудь устроить». И под недовольными взглядами киви-туристов мы снова пустились в наше сентиментальное путешествие по лабиринтам французских путей сообщения.
Перед этим я убеждал себя, что, вероятно, Наиле не позволяет вступать в связь с женатым мужчиной ее религия, да и меня в каком-то смысле больше устроят платонические отношения. С Фабьеной мне не хватало не физического удовлетворения, а радостной гармонии, не омраченной никаким расчетом и никакими обязанностями. Мне так нужна была живительная духовная близость, когда тебя поймут, подхватят шутку; так хотелось замкнуться в скобки, выгородить себе островок и думать, что впереди еще целая жизнь, ушедшее же время не упущено, а, наоборот, выиграно, так как не потрачено на неизбежный для взрослого человека конформизм… В общем, желая Наилу, я желал обрести себя. Но однажды в четверг я, как обычно, зашел в турагентство и вдруг увидел совсем другую Наилу: запавшие глаза, поджатые, побелевшие от гнева губы. Я спросил что-то про реки в Ардеше. В ответ она сообщила, что ей надоело выслушивать ругань отца, который обвиняет ее в том, что она уже не девушка. Она решила сделать его упреки обоснованными и наметила в помощники меня, если, конечно, меня не затруднит такая услуга. Эта прямота, не слишком лестная для моего самолюбия, странным образом нашла во мне отклик, напомнив о презрительном предложении Фабьены изменять ей не церемонясь. Мы с Наилой забрались на парусный склад водноспортивного клуба и довели дело до конца, полные самых лучших дружеских чувств, которые не исчезли и в дальнейшем, когда мы научились доставлять друг другу удовольствие.
– Простите, – прошептала Наила, не глядя на меня.
– Это вы меня простите, – учтиво ответил я.
И мы оба расхохотались, лежа на расстеленном парусе. Потом встали и отыскали в пустой ввиду зимнего времени раздевалке полотенца.
Это было в прошлом году.
Что ждало нас в будущем? Может, нашей любви очень скоро пришел бы конец? Или страсть и искренность притупились бы со временем и все свелось к нудной связи? Или все же у меня хватило бы мужества – и желания – бросить ради нее семью? На что я решился бы, если бы дошло до крайности: предпочесть Наилу или пожертвовать ею?
Не удивлюсь, если окажется, что я умер от нерешительности. С горечью убеждаюсь, что эта черта характера не исчезла и за гробом.
Напутствие меня в мир иной прошло нормально. Я ничего не почувствовал. Пожилой священник честно пробубнил всю обойму положенных молитв, но держался как-то отчужденно, словно недоумевая, почему вдруг он тут очутился. Мы видели друг друга первый раз. Ни в нашей церкви, ни в Пьер-рэ я его не встречал. Возможно, его прислали по вызову – какая-нибудь служба «Гробы на дому» вроде «Срочной медицинской помощи».
Мне очень стыдно, но, пока мою душу препоручали Господу, я думал только о том, что теперь бы в самый раз глоток аперитива.
Часов в двенадцать пришел из школы Люсьен, ничуть не испуганный, с ранцем за спиной и электронной игрой на батарейках в руке – видно, не отрывался от нее всю дорогу. Вероятно, хотя Фабьена все объяснила по телефону, учительница с директором побоялись рассказать мальчику, что произошло. Мать ждала его в передней. Она взяла его за плечи поверх ремней от ранца и, подготовив почву какими-то туманными намеками, наконец сказала, что в дом пришла беда и он теперь стал мужчиной. Люсьен сразу просек.
– Папа умер? – выпалил он с округлившимися глазами. Фабьена прервала на полуслове запутанные рассуждения о жизни, смерти, испытаниях и взрослении. Такая реакция выбила ее из колеи, почти… разочаровала – у нее было заготовлено еще столько красивых фраз.
– Нет-нет, – невольно вырвалось у нее в первую секунду. – То есть да… Видишь ли, он ушел, но не покинул нас навсегда – он сейчас на небе вместе с бабушкой. Понимаешь? И ты должен молиться за него, потому что…
– От чего он умер? – перебил Люсьен, всегда, как и его мать в нормальном состоянии, мысливший практически.
– Разрыв ао… Это было не больно, как укол. Папа не страдал, он ушел во сне. Крепись, малыш.
И Фабьена прижала его к себе вместе с ранцем. Наконец-то она заплакала. Хотя, как я подозреваю, не из-за меня, а из-за нависшей над сыночком угрозы гипертонии.
– Где он? – спросил Люсьен, высвободившись и стоя прямо, как деревянный солдатик.
Фабьена кивнула в сторону гостевой комнаты.
– Ты хочешь проститься?
Она погладила Люсьена по щеке и улыбнулась, как будто все понимала и хотела его пощадить:
– Это не обязательно. Ты можешь запомнить папу таким, каким он был в жизни. Например, когда приходил вчера поцеловать тебя на ночь. Вот так о нем и думай. Как будто он жив и всегда рядом. Погасишь свет – и он тут.
В это время открылась дверь с улицы и вошел Альфонс вместе с моей сестрой. Женщины обменялись взглядами. И сразу потянуло ледяным холодом.
– Ну иди же поцелуй папу! – скомандовала Фабьена внезапно изменившимся голосом.
И, даже не сняв болтающегося за спиной ранца, подтолкнула его в коридор.
– Нет, не так! – протестующе крикнул Люсьен. – Пусти меня!
Он вырвался, взбежал по лестнице и хлопнул дверью своей комнаты.
– Люсьен!
Не глядя на мою сестру, которая кладет шлем на столик и удрученно качает головой, Фабьена взбегает вверх вслед за Люсьеном и останавливается перед его дверью, украшенной наклейками с черепашками-ниндзя.
– Люсьен, малыш! Слышишь меня?
Она кусает ногти. Колеблется. Стучит в дверь. Наконец заглядывает. Люсьен стоит у раскрытого шкафа, раздетый до пояса, сжав зубы и вздернув подбородок. Джинсы и свитер валяются на полу рядом с портфелем, и он снимает с вешалки синий в полоску костюм в стиле Уолл-стрит, который он попросил у меня в подарок на Рождество. Встретив его гневный взгляд, Фабьена опускает глаза и тихо притворяет дверь.
Вторая половина дня посвящена утряске формальностей и улаживанию самых неотложных дел. Закрыть счет в банке, погасить налоги, выправить доверенности, составить сообщения и уведомления, тут завершить, там приступить… Позаботиться о моей душе можно будет потом, когда закроются конторы.
Я не заметил, как прошло время.
В какой-то момент мне показалось, что передо мной открылся светящийся туннель, который выводил на мерцающий изменчивой гаммой красок берег… То был не более чем замысел моей неоконченной картины, эхо последнего сна, настойчиво заполнявшее паузы, когда возникшие в связи с моей кончиной практические заботы отрывали моих близких от мыслей обо мне самом.
Вокруг меня пульсировали разные сочетания цветов и их оттенков, вырастали перспективы, открывались, смыкались или расплывались глубины, но я был навсегда лишен возможности закрепить хоть что-то материально. Фигура Наилы, точнее, ее карандашный набросок выглядел чем-то вроде геометрической конструкции непонятного предназначения. Что я хотел сказать этой картиной? И в каком виде она существовала: во всей своей потенциальной безграничности или сведенная к скудной данности моей работы?
Где-то между пространством синих стен гостевой комнаты и солнечных каскадов «Забытого окна» я явственно услышал повторенный несколько раз подряд ответ – повторенный моим голосом! «Цинковые белила, желтый кадмий, сиена натуральная…» – говорил этот голос. Я перечислял цвета палитры Винсента Ван Гога периода «Едоков картофеля», последовательность, которую с суеверным преклонением запомнил, перенял и теперь повторял как «Сезам, откройся», как заклинание, способное открыть двери рая: «…кобальт, жженая кость, киноварь…» – увы, под моей кистью эти магические слова отзывались только безжизненными пятнами.
Близ моего одра расселось в принесенных из секции садовой мебели складных креслах семейство в полном сборе – вся большая четверка плюс Альфонс, положивший на столик в изголовье мою вчерашнюю книгу с обнадеживающей закладкой, наша кассирша Одиль, ее муж Жан-Ми – знаменитый в городе кондитер с улицы Даниель-Ропс, и, наконец, мадемуазель Туссен, которая, видимо, сочла, что имеет на меня особые права, коль скоро первой обнаружила мое тело. Именно она рассадила собравшихся по степени скорби, приготовила кофе, зажгла свечи и поправила на мне галстук. Как настоящая хозяйка торжества. Тиканье ее спиц складно вплеталось в глухое уханье маятника настенных часов. Бдение над моим телом продолжается уже полтора часа, и если у кого-то на глазах еще и выступит слезинка, то только от зевоты.
– Как мирно он выглядит! – в пятый или шестой раз повторяет Одиль.
Как будто когда-нибудь я выглядел свирепо. Какая, право, у людей короткая память и как легко они наклеивают вам ярлык, пользуясь вашей безответностью. Правда, у Одили со мной свои счеты. Одиль, с ее унылым длинным лицом, сутулой спиной, торчащими, как недоразвитые крылышки, и дрожащими, когда она плачет, лопатками, тайно и безнадежно влюблена в меня еще с тех пор, как нам обоим было по четырнадцать лет. Она не выказывала ни капли злости или досады ни когда я гулял со всеми ее школьными подружками по очереди, а те сначала коварно использовали ее как прикрытие, а потом отшвыривали за ненадобностью, ни когда сам женился на коронованной красотке, а ей подсунул в мужья своего приятеля Жана-Ми, которому после аварии на водных лыжах нужна была преданная душа, ни когда, наконец, без тени смущения и уверенный, что делаю ей приятное, я попросил ее быть крестной матерью моего сына. Словом, по моей милости ей двадцать лет приходилось корчить хорошую мину – но что же я мог поделать? Сегодня я угомонился, и, глядя на меня, она сама обретает мир.
Люсьен, очень серьезный, затянутый в чересчур солидный для его возраста полосатый костюм, подошел ко мне, заложив руки за спину. Медленно наклонился, запечатлел на моем лбу ритуальный поцелуй и, выпрямившись, оглядел присутствующих, чтобы все видели, что он не плачет. Не знаю, что творится у него внутри, каков, так сказать, уровень подземных вод, но я был просто потрясен тем, как он собрал все силенки, чтобы сдержать слезы и показать себя достойным маленьким мужчиной, главой осиротевшего семейства. Прежде чем отойти, он, как другие, почтительно перекрестил меня, словно следуя инструкции по пользованию каким-то новым предметом, и уж затем сел на свое складное кресло между матерью и теткой, напыжившись и уставив на меня невидящий взгляд.
Как я теперь жалею, что уделял так мало внимания этому совсем не похожему на меня мальчугану. Помню, как-то раз я упрекнул Фабьену в том, что она поддерживает в Люсьене его дурацкую серьезность, она же ответила, что он такой из-за меня: я не даю ему возможности быть ребенком, потому что ребячусь сам и занимаю детскую нишу в семье. Если бы я добросовестно исполнял роль отца, а не дурачился почем зря, как младенец-переросток, то и Люсьен был бы нормальным восьмилетним ребенком, а не таким маленьким старичком, как сейчас, который каждый день прилежно ходит в школу и учится на «отлично», по средам хозяйничает в магазине, а все свободное время проводит перед видаком с приставкой, не мешая мне резвиться и не покушаясь на мою территорию.
В прошлом году перед Рождеством он убрал свою комнату в предвидении «Макинтоша», который он попросил у Деда Мороза. Чтобы освободить место, он вытащил в коридор свои плюшевые игрушки и положил их на мешки со старой одеждой – Фабьена собиралась отдать ее бездомным, – а все мини-машинки, какие я подарил ему за восемь лет, расставил на моих книжных полках. Я чуть не прослезился, когда увидел рядом со своей коллекцией паровозиков эти «динки-тойз» и «солидо», говорившие мне о его детстве больше, чем фотографии. Фабьена была права. И вот сейчас Люсьен похоронит здоровенного придурка, которого из приличия звал папой. Протокольная скорбь скоро пройдет, и Люсьен сможет скроить в памяти мой образ по собственному вкусу. Мне вдруг отчетливо вспомнилось, как иногда за столом он ни с того ни с сего самым нейтральным тоном сообщал: «У Алена Нолара развелись родители» или «У Амели Ревийон умер отец». Не скажу, чтобы в глазах его была заметна зависть, но замечания и соображения, которые следовали за этой информацией («Ален стал лучше учиться, с тех пор как у него появилось две комнаты», «Амели хоть освободили от физкультуры»), наводили на мысль, что эти примеры его прельщали.
Теперь я понимаю, что принимал за отцовские чувства чистейшей воды эгоизм. Сквозь сеть накладывающихся друг на друга монотонных импульсов – молитвы Одили, александрийские строчки Альфонса, вздохи Брижит, вязание мадемуазель Туссен – я кое-как прорвался в грохочущий Луна-парк, куда водил Люсьена в конце каждого семестра. В награду за отличные успехи. Это была наша, как я говорил, «мужская прогулка». Я совершенно искренне хотел разделить с ним, увидеть, в его глазах и снова пережить восторг от катания на карусели – мне в его возрасте дарила это удовольствие сестра. Люсьен вяло тащился, держа свою длинную леденцовую палку в опущенной руке как поводок, с которого спустили собаку, равнодушно проходил мимо тира, зевал в «доме с привидениями»; раздраженно заводил глаза, когда на «авторалли» в его машинку врезались другие такие же с хохочущими ребятишками за рулем; уныло разглядывал с «американских горок» крыши домов, в то время как его соседи, упиваясь страхом, визжали на виражах.
Возвращались мы, когда уже темнело, я – сияющий, он – с чувством выполненного долга. Фабьена спрашивала Люсьена: «Ну что, он хорошо поразвлекся?» – и тот отвечал: «Да».
Эпизоды с аттракционами следуют друг за другом вполне упорядоченно, не то что первые обрывки воспоминаний, когда меня швыряло из сада с улиткой в море с байдаркой. Люсьен постоянно присутствует в каждом, и его присутствие ощущается сильнее моего – наши прогулки наедине, без Фабьены, видятся мне глазами сына. На колесо обозрения и мини-автомобильчики накладывается его лицо, такое, каким оно видится сейчас, в дрожащем пламени окружающих меня свечей; меня ведет нить его мыслей, и я чувствую себя не совсем мертвым, потому что не один. Какое счастье переживать эти часы так, как они представляются Люсьену, оказывается, они запали ему в душу глубже, чем я думал, и теперь он дарит мне их вместо молитвы. Это несколько изменило в лучшую сторону мое отношение к ритуальному бдению над телом. Все или почти все, кто собрался вокруг моего одра, принесли с собой память о самых лучших, самых трепетных минутах, которые мы пережили вместе, – принесли, чтобы как-то восполнить мое отсутствие.
Но вот карусель с лошадками подернулась рябью, вся картинка задергалась, затуманилась, сжалась, и в следующее мгновение я увидел себя сидящим в классе за партой Люсьена с зажатыми между низким столом и сиденьем коленками. Самого Люсьена нет. Это родительское собрание, на котором я заменял занятую инвентаризацией Фабьену. Дело происходит месяц, а может, год тому назад. Вокруг меня взбудораженные мамаши и примостившиеся на сыновних стульях отцы. Разбираются рисунки, и очередь дошла до меня. Произведения наших ребятишек развешаны на стенах. Тема – «Моя семья». Люсьен нарисовал замок без окон, с закрытой дверью, перед крыльцом – машина, и ни одного живого человека. Как выясняется, это страшно важно. Нормальные родители, с облегчением нашедшие себя на рисунках своих отпрысков, смотрят на меня с презрением или сочувствием.
– Почему ты не нарисовал папу и маму? – спрашивает учительница.
Это события предыдущего дня. Люсьен стоит у доски. Странно – отныне стоит мне задаться каким-нибудь вопросом, как я тут же получаю на него ответ, как будто внутри извлекаемой из памяти сцены раскрываются скобки.
– Они уехали в магазин.
Училку не проведешь – особа с соломенным перманентом поднимает брови домиком, хитро улыбается и показывает пальцем на рисунок:
– Да? А почему же машина на месте?
– Чтобы ездить по магазинам, у них есть другая, – объясняет мой сын привычно-снисходительным тоном – как еще прикажете относиться к идиотским вопросам взрослых!
– А почему рядом с домом нет тебя? – не унимается учительница.
– Потому что я рисую эту картинку.
Снова родительское собрание. Кто-то ерзает, разминая затекшие ноги, кто-то незаметно выдвигает ящики столов своих деток и изучает содержимое. В дверь просовывается голова директора:
– Ну как, они хорошо себя ведут?
– Очень, – отвечает учительница, и дверь закрывается. Жанна-Мари Дюмонсель, возмущенная тем, что оказалась на задних рядах, около самой батареи (это географическое положение отражает школьные успехи ее внучки), яростно критикует систему оценок. Учительница методично, пункт за пунктом, разбивает ее аргументы. Нудные, вздорные пререкания, бесконечное пережевывание мелочей и топтание на месте, как будто заело пластинку, – все это затягивает меня в какой-то круговорот скуки и тревоги. Я хочу вернуться на прощальное бдение, но не могу прорваться, сил хватает только на дрейф в воспоминаниях. Да и улизнуть в другой пласт прошлого, как я вдруг понимаю, мне больше не удастся. Слишком осязаемы голоса, слишком весомы взгляды, я не могу взять и растаять. Реальность сомкнулась вокруг меня и «схватилась», как цемент. А страх навсегда застрять на этом школьном собрании только еще прочнее втискивает меня в классную комнату; стены и лица проступают все явственнее. Чувство замкнутости, удушья, которое мучительно нарастало во мне тогда под осуждающими взглядами более достойных своего звания отцов, словно было своеобразным предчувствием, интуитивным предостережением, которое оправдалось в полной мере только сейчас. Может быть, смерть – это такой отстойник, куда стекаются и где получают подтверждение забытые предчувствия?
Выручает меня Альфонс, возвращая в настоящее время громогласным восклицанием:
– Никто, никто и не подозревал!
Все вздрогнули и настороженно воззрились на него. Старикан побагровел, пробормотал извинения – руки его заходили, как «дворники» по лобовому стеклу – и по-черепашьи втянул голову в воротник. Но через полминуты, только все успели вновь погрузиться в свои мысли, он, собрав всю смелость и преодолевая робость, выпалил:
– Какой он был замечательный человек!
Сестра и Фабьена поблагодарили его улыбкой, надеясь, что это конец его выступления. Но я-то знаю своего дядьку. Если уж он завелся, его не остановишь. Так и есть.
– Да что там, – продолжает Альфонс, – не далее как вчера – он заходил помочь мне навести порядок на складе, мы вытаскивали ледовые буры, то еще фуфло, в прошлом году еле-еле продали три штуки, – так вот вчера он мне вдруг и говорит: «Знаешь, Альфонс, лучшее, что может сделать человек, чтобы что-нибудь осталось после него на земле, – это трудиться. Кто ничего не сделал, тот все равно что не рождался». – Я ничего такого не говорил, но оценил благородные побуждения Альфонса: он хотел заменить память о лентяе образом труженика, вероятно, в расчете повлиять на святого Петра, который, видимо, представляется ему этаким насупленным уполномоченным, собирающим отзывы живых об усопшем. – Он мог бы стать известным художником, выставляться в Шамбери, недаром же сам префект купил для музея его пейзаж – вид на озеро, – когда разыгрывалась лотерея в пользу собак-поводырей, помните, показывали по местному каналу?… Да что я говорю – Шамбери! Он бы и на Париж потянул, и на весь мир, если бы захотел, но семья, дело – то есть скобяная торговля, – для него это было свято. Я держал его на коленях, когда он был еще вот такусенький, и я скажу вам: этот человек никогда не бросил бы ближних ради блестящих бирюлек и всяких там фу-ты ну-ты. Никакая слава ему бы не вскружила голову. Он не из таких. Сызмальства был смышлен хоть куда, но всегда оставался простым.
– Спасибо, Альфонс, – с нажимом шепчет Фабьена, намекая старику, что его чересчур звучная речь мешает молитвам окружающих.
– Не за что, мадам Фабьена! – возражает Альфонс, прижимая руку к груди. – Я говорю от сердца – какая ж тут заслуга! Он был великим художником, но никакой работой не гнушался, хотя мог бы найти занятие получше, чем возиться с железяками да хозяйственным хламом, с его-то руками – ему ведь ничего не стоило за три минуты нарисовать какой угодно закат или там букет, все как настоящее, я-то знаю, он и меня написал. Изобразил таким как есть, просто я никому не говорил из скромности: что такое мой портрет по сравнению с шедеврами, которые рано или поздно будут висеть в картинных галереях!
Мадемуазель Туссен протягивает ему тарелку с печеньем – может, отвлечется и потеряет нить.
– Да-да! – настаивает Альфонс, как будто кто-то усомнился в его словах. – Честное слово! Мне тогда было семьдесят пять, и портрет все равно что зеркало. Теперь-то уж, конечно, не узнать, пять лет прошло, а старость есть старость…
На этот раз Фабьена ничего не сказала. Наоборот, выдержала паузу и веско кашлянула – это прозвучало так, как будто кто-то защелкнул кошелек во время мессы. Альфонс понял. Он заискивающе оглядел всех, словно прося поддержки, но никто не отозвался. Все смотрят на свои или на мои ноги, все ушли в себя. Тогда Альфонс сдвигает берет на другое ухо, опускает глаза и смущенно заключает:
– Аминь.
Дальнейшее он уже шепчет себе под нос, чтобы никого не беспокоить. Снова забренчали спицы мадемуазель Туссен. Люсьен сидит на кончике стула, отважно сопротивляясь сну.
Одиль, прижав к лицу носовой платок, искоса поглядывает на мужа, мысленно упрекая его за то, что он меня пережил. Бедняга Жан-Ми! Нам с ним всегда было не о чем разговаривать, но мы отлично понимали друг друга. Он обожает спорт, в совершенстве владеет кондитерским искусством и мается, когда нечем занять руки – работать головой он не мастер. Сидеть над моим телом – для него сущее наказание, он чувствует себя неловко и сам на себя злится. За всю жизнь он ни разу не сказал. мне «Здравствуй!», вместо этого с размаху залеплял кулаком в грудь и вопил: «Живем, старик!» А тут вдруг – на тебе!
В настроение сестры я предпочитаю не вникать, и так ясно. Она неотрывно, с тупым отчаянием смотрит на мое раскрашенное восковое лицо, стараясь навсегда его запомнить, отвоевать у небытия, в которое я, согласно ее убеждениям, канул. Сначала в глазах ее пылало возмущение несправедливостью судьбы, теперь оно потонуло в слезах. В ней нет ни капли сомнения или надежды, ни намека на молитву, устремленную ко мне или к потолку, только взвешенные в вакууме мысли обо мне. Брижит, вопреки всем прогнозам, уже десять лет живет с раком легкого, и мысль, что это она сидит у моего гроба, а не наоборот, по временам исторгает у нее горькую усмешку, которую моя жена истолковывает на свой лад.
Фабьена, конечно же, думает о завещании. Она знает, что я был очень привязан к Брижит и что эта привязанность только усиливалась от того, что мы редко виделись (у Брижит сумасшедшая жизнь: то гастрольные гонки, то долгие периоды простоя, которые она пережидает, забившись в свою нору), и имеет все основания опасаться, что я мог сделать основной наследницей сестру. Действительно, поскольку будущее Фабьены и Люсьена обеспечено – им достается дело, дом и акции, я назначил Брижит единственной наследницей моей страховки, то есть суммы в два миллиона триста тысяч франков. Для Фабьены это ощутимый удар. Возможно, иногда я думаю о Фабьене хуже, чем она заслуживает, потому что это облегчает угрызения совести, испытываемые мною по отношению к ней, но в данном случае ошибки быть не может, я слишком хорошо знаю свою вдову и уверен на сто процентов: она уже строит планы модернизации магазина, рассчитывая пустить на это доход от моей скоропостижной кончины. Так нет же! Прощай, плиточная облицовка взамен штукатурки, прощай, кондиционер, прощайте, лепные ростры из «Касторамы» и система видеонаблюдения. В кабинете нотариуса предстоит душераздирающая сцена.
Пытаюсь настроиться на отца, но не чувствую его – связи нет. Он вообще внутренне отсутствует: сжимает в кармане кофты кассету, которую ему дала Фабьена, и весь в ожидании, в предчувствии момента, когда все разойдутся спать, а он останется на кухне наедине с моим голосом. Это он думает, что там мой голос. Какое же разочарование его ждет и как же я корю себя за мелочную жестокость, причину существования этой вещицы, в которую отец вцепился изо всех оставшихся сил.
В последнее время мы общались очень мало. Когда я приезжал на заброшенную ферму в Тревиньене, на развилке двух больших дорог, куда он прочно забился с тех пор, как оставил нам магазин, то судил о его состоянии по кротовым кучам перед домом. Если земля была тщательно выровнена и десяток колышков указывал, где расставлены ловушки, значит, все в порядке и я застану папу аккуратно одетым, выбритым и по обыкновению колдующим над тремя видеомагнитофонами, без конца просматривающим пленки, что-то заново переписывая и монтируя; на всех трех экранах – мама: идет, улыбается, смотрит; на трех экранах их свадебное путешествие через всю Америку, семейные праздники, четыре года счастья, оборвавшегося с моим рождением.
Если же, открыв ворота, я видел, что все перерыто, земля вспучена кротовыми ходами, значит, экраны выключены, а отец сидит небритый, в пижаме, перед бутылкой коньяка и тупо молчит. Кроты торжествовали. Судя по тому, что сегодня он не выходит из оцепенения, на щеках у него щетина недельной давности, из-под запачканной кофты торчит воротник пижамы, а от черного костюма, который Альфонс привез ему из Тревиньена, он отказался, пожав плечами, не исключено, что теперь победа останется за ними навсегда. А жаль. Еще год назад даже в подобных обстоятельствах, я уверен, папа оценил бы иронию судьбы, заметив, что мы с ним оба одеты в те же самые костюмы, какие были на нас в день моей свадьбы. Вопреки горю, времени и пространству, он смог бы в хорошие дни – дни заряженных кротоловок – сохранить ту внутреннюю связь, которая все-таки существовала между ним и маленьким сыном с видеопленок. Может, и для меня взрослого нашлось бы местечко в его видеотеке? Может, у него еще хватило бы сил подверстать меня в архив памяти?
Я умер слишком поздно.
Альфонс, по-прежнему прилежно перебиравший про себя эпизоды, которые, на его взгляд, наилучшим образом отражали мою суть, вдруг прыснул в кулак. Фабьена метнула в него строгий взгляд, вздохнула и досадливо поерзала на цветастом складном стуле.
– Да это мне пришел в голову тот случай в лицее Грези-сюр-Экс с учителем латыни и разбитым окном, которое все заклеивали бумагой, – объяснил Альфонс. – Помните, а?
Вопрос повис в полном молчании. У Альфонса горели глаза, щеки морщила широкая улыбка – он призывал всех в свидетели. Но скорее всего этой истории никто, кроме отца, не знал, а тот, вынырнув на мгновение из летаргии, что-то пробормотал себе под нос и снова обмяк, предпочитая вспоминать в одиночку.
– Ну и насмешил же он меня тогда, наш Жак! Этот их латинист, забыл, как его звали, фу-ты, глупость, ведь я еще на прошлое Рождество носил ему в хоспис каштаны… серьезный такой был мужчина… да вот, чтоб вы имели представление, он как две капли воды похож на бородатого ветерана Первой мировой – знаете памятник в Кларафоне?
Он снова оглядел все лица, проверяя, дошло ли его сравнение. И на всякий случай уточнил:
– На 913-м шоссе, напротив Перимона. Раньше он стоял прямо на повороте в Летьер и был самым опасным памятником павшим во всей округе: там спуск от Ревара, и вот, чуть туман или гололед – так бац! – каждую зиму с десяток человек разбивалось насмерть, в конце концов его перенесли на другую сторону, поближе к колодцу, сейчас-то там вообще все застроили… о чем это мы говорили?
Ответа не последовало, только зашаркали ноги под садовыми стульями. Каждый надеялся, что Альфонс наконец истощится и можно будет продолжать чинное бдение. Между тем лица успели несколько измениться, на некоторых застыло недовольство, и по этому признаку я заключил, что память обо мне и забота о спасении моей души постепенно уступают место подсчетам расходов, доходов и налогов, планам на отпуск, привычной зависти и ссорам с соседями из-за смежной стены. Запах горячих свечей располагает к размышлениям, а посидеть часок в тишине и обмозговать набежавшие проблемы никогда не вредно. Однако Альфонс лишает людей этого удовольствия: он вспомнил, о чем говорил, и, хлопнув по колену беретом, продолжает:
– Ах да! Это я начал про латиниста! Серьезный такой мужчина, похож на ветерана, что всем тычет в глаза свою раненую ногу… Между нами говоря, я его видел раза три-четыре при исполнении служебных обязанностей, когда месье Луи был занят в лавке и посылал на родительское собрание меня… Как он всех чихвостил, сейчас уж не припомню за что, но видно было: этот свой хлеб ест не даром! Мину – вот как его звали! Я еще запоминал: как «минус», только без последней буквы. Да, точно – месье Мину, преподаватель французского, греческого и латинского, только греческому учить было некого. Зимой и летом в черном сюртуке и с тросточкой – чуть не забыл про тросточку! Сейчас-то он ездит в инвалидной коляске, но тросточка – это очень важно в той истории!