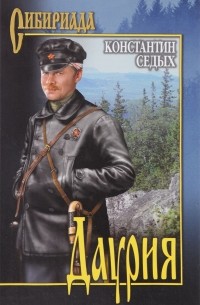Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
XXII
Долго ходил Семен по выгону. Уже смеркалось, когда натолкнулся он на коня в распадке, заросшем кустиками смородины. За время недельного отдыха конь заметно поправился, и поймать его удалось не сразу. Только загнав его в густой тальник у ворот поскотины, Семен ухитрился схватить его за гриву и взнуздать.
Скормив коню прихваченный с собою кусок хлеба, Семен поехал в поселок, слушая затихающие голоса перепелов в туманных ложбинах. В лагере, смутно белевшем на луговине у Драгоценки, сыграли уже вечернюю зорю. Навстречу Семену наряд вооруженных кадровцев, громко переговариваясь, гнал в ночное пастбище табун лошадей. На каменистой дороге из-под кованых конских копыт брызгали голубые искры. Один из кадровцев, в белом дождевике, подъехав к Семену, попросил огонька. Прикурив, он поблагодарил Семена, щедро угостил махоркой и пустился догонять товарищей. В задумчивости Семен не заметил, как очутился на броду. Позвякивая удилами, конь потянулся к воде, в которой смутно отражались кусты и звезды. Вдруг Семену бросилось в глаза, что небо над поселком странно покраснело, заструилось. Не понимая, в чем дело, он поспешил на берег. На бугре, за темными церковными куполами, медленно подымались кверху клубы черно-бурого дыма, проколотые рыжими язычками огня. В озаренном полымем небе кружились, как птицы, пучки обгорелой соломы. «Пожар», – испуганно ахнул Семен и поскакал на зарево. Торопливые звуки набата летели ему навстречу.
В проулке, ведущем от ключа к Драгоценке, заметил человека, который, низко пригнувшись, бежал вдоль плетней. Человек показался ему подозрительным. Он пустил коня наперерез. Завидев его, человек перескочил через плетень и кинулся на заполье к болоту. Семен перемахнул на коне невысокий плетень и погнался за человеком, который не разглядел в темноту неглубокой, но вязкой трясины, влетел в нее и упал, тщетно пытаясь выбраться.
– Кто это? – спросил, подскакав Семен. Человек молчал, тяжело отпыхиваясь. Тогда Семен скомандовал: – А ну, выходи, кажись, кто ты таков!..
– Я тут, паря, – отозвался тот, и Семен узнал по голосу Алеху Соколова. Он сразу сообразил, что убегал от него Алеха неспроста. Он прикрикнул:
– Ну, сознавайся, гусь лапчатый, что наделал?
– Кеху поджег, не видишь? Хватай меня, веди к атаману. Пусть меня убивают, мне теперь все равно…
Выбравшись из трясины, Алеха со злобой готового на все человека подступил к Семену:
– Ну, вяжи меня… Пей мою кровушку…
Семена ошеломило, заставило содрогнуться отчаяние Алехи. Он примирительно сказал:
– Дура… Не ори во все горло. Не больно мне надо об тебя руки марать, – прикрикнул он на Алеху. – Давай уметывай на все четыре стороны, да только Кустовым, смотри, не попадайся. Ежели в Шаманку потопаешь, не ходи по дороге. За тобой, как пить дать, погоня будет.
Алеха подступил к Семену вплотную, глухо и прерывисто спросил:
– Значит, отпускаешь? Ты, может, не слыхал, в чем я повинился тебе?
– Не бойся, слышал… Уходи давай, а я глядеть поеду, что натворил ты. – Круто повернув коня, Семен пустил его с места в карьер.
Горели крытые соломой громадные кустовские повети. Когда Семен прискакал туда, там уже было много народу. На огненном фоне суетливо мелькали растерянные фигуры людей с баграми и метлами. Звякали в темноте ведра, мычали телята, доносился тревожный говор. Пламя трещало, гудело и выло. Казалось, никакая сила не укротит слепую и страшную ярость огня. И у Семена мелькнула беспокойная мысль: «Ладно ли я сделал, что отпустил Алеху? Он, кажись, натворил беды не одному Кехе…» Оставив коня, перескакивая через заплоты, Семен очутился у поветей. Первый, кто бросился ему в глаза, был Иннокентий. В измазанных сажей полосатых подштанниках, в ичигах на босую ногу, потерявший голову Иннокентий без толку бегал взад и вперед, упрашивал плачущим голосом:
– Воды давайте, воды… Все займется, все погорит… Помогите же, ради Бога…
Парни, девки и бабы носили ведрами воду из кустовского колодца в огороде, сталкивались, падали. Куча растрепанных простоволосых старух стояла поодаль с высоко поднятыми иконами в руках. От ключа, напрямки, через разобранные прясла заплотов въезжали бочки с водой. Каргин, с багром в руке стоявший на куче сваленного у поветей навоза, зычно командовал:
– Столбы рубите, столбы!..
– Топоры, топоры давай! – взвыл диким голосом, заглушая треск и грохот пожара, Платон Волокитин.
Десятка два казаков с топорами бросились к столбам, на которых держались крыши поветей, и принялись ожесточенно подрубать их. Семену невольно передалось состояние толпы.
Искаженные ужасом лица старух, щемящие сердце вопли баб, деловая суетня не растерявшихся посёльщиков заставили его очертя голову ринуться вперед. Охваченный общим порывом, он, неведомо как очутившимся у него в руках топором, принялся сокрушать столбы. Не прошло и трех минут, как крыши затрещали, качнулись и рухнули.
Тучи искр взмыли в небо. Светлей и реже сделался дым. И с чувством неосознанной гордости Семен убедился, что люди одолевали огонь, теснили со всех сторон. С топором на плече стоял Семен, отдыхая. У него были опалены ресницы и обожжена щека. В глазах что-то мешало, и он часто моргал ими. Мимо него пробежал Иннокентий. При виде его заплаканного красного лица Семену стало противно… «Заорал небось, как беда приспичила. Вперед, толстомордый, умнее будешь. Не станешь над работниками подлые штучки выкидывать, оплеухами за работу платить», – позлорадствовал он над Иннокентием.
Заливая водой догорающие перекрытия поветей, казаки возбужденно переговаривались:
– Алеха Иннокентию удружил. Больше некому.
– А может, кто-нибудь окурок обронил?
– Алехой этот окурок зовут. Хорошо, погода тихая стояла, а то бы кустовский крестник многих из нас по миру пустил.
– И я бы тут за чужие грехи пострадал, – горячился сосед Иннокентия Петрован Тонких. Платон размахивал обгорелой метлой и угрюмо басил:
– Надо поискать Алеху. Далеко он убежать не успел. Он, так и знай, к себе в Шаманку направился. Опередить его да подождать в узком месте у старых отвалов.
– Да откуда оно известно, что Алеха поджег? – не глядя на Платона, спросил Семен, а сам подумал, что плохо Алеха сделает, если по тракту пойдет, а не степью.
Семен уже садился на коня, когда ему повстречался Никифор Чепалов. Прошли они мимо друг друга, до хруста отвернув головы. До Семена донеслось, как Никифор говорил кому-то:
– Вышел, сволочь… Мало его продержали у клопов на довольствии.
«Не унимаются, собаки, – опалила Семена обида. – Рады со свету меня сжить… Да только мы еще посмотрим, кому смеяться, а кому плакать», – пригрозил он, уезжая из кустовской ограды.
Приехав домой, он пустил стреноженного коня на межу в огород. Алена еще не спала, дожидаясь его. Она спросила, хочет ли он есть, но Семен отказался и стал укладываться спать, промыв холодной водой воспаленные глаза. Заснул он не скоро, без конца громоздились в памяти события, пережитые за день. Перед ним неотступно стояли: перекошенное отчаянием тонкобровое, смуглое лицо Алехи, плутовато бегающие по сторонам узенькие глазки Иннокентия, темные лики икон, вынесенных старухами на пожар. Долго он пробовал разобраться в своих поступках, неожиданных и противоречивых. Он не жалел, что дал уйти Алехе. Именно так и следовало поступить. Но внутренний жестокий голос посмеивался над ним, что он так рьяно тушил пожар.
Назавтра, приехав в Шаманку, Семен первым делом пошел к Пантелею – брату Алехи. Семену не терпелось узнать, вернулся ли Алеха и что он собирается делать.
– Брат дома? – едва поздоровавшись, спросил он Пантелея.
– Еще вчера утром куда-то черти унесли. Не сказал мне ни слова и ушел.
– Он ведь, паря, ночесь Кустовых поджег.
Пантелей схватился за голову:
– Вот навязался на мою голову братец! Нас теперь с ним по судам затаскают. Ох да и подлец… Уж если оказался дураком, дал себя обмануть, так и терпел бы. Я ему морду в кровь расчешу, пусть только заявится.
«Заявится ли только он?» – подумал Семен, но не сказал Пантелею о своих сомнениях. Он подозревал, что ночью Кустовы ездили караулить Алеху. Но говорить об этих подозрениях было пока преждевременно. Алеха мог и не заходя в Шаманку убраться куда-нибудь подальше. Семен попрощался с расстроенным Пантелеем и отправился подыскивать подходящую старательскую артель. На базаре он встретил знакомого казака из поселка Байкинского, и тот указал ему две артели, где требовались компаньоны, имеющие лошадей.
Устроился Семен в тот же день. Артель, в которую его приняли, состояла из семи человек. Заправилами в ней были два потомственных приискателя, исколесивших вдоль и поперек долины Газимура, Унды и Урюмкана. Это были широкоплечие, кряжистые мужики лет сорока пяти, оба с окладистыми рыжими бородами. Одного их них звали Митрохой Сахалинцем, другого – Петрухой Томским. У Сахалинца был длинный, загнутый книзу нос, у Томского – короткий и задорно вздернутый кверху. Томский хромал на левую ногу, а Сахалинец косил на правый глаз. Носили они необъятно широкие плисовые штаны и войлочные шляпы, подпоясывались семицветными шелковыми кушаками, за которыми постоянно болтались у них кисеты с махоркой и кривые ножи в обшитых замшей ножнах. Сахалинец и Томский откровенно презирали остальных членов артели, которые, как и Семен, были новичками на золоте. Были это все казаки – бедняки Орловской станицы, пришедшие на прииске подзаработать в свободное от домашних дел время.
Обосновалась артель в четырех верстах от Шаманки, в узком распадке среди крутых сопок, северные склоны которых были покрыты кустарником, а южные – мелкой, выгоревшей за лето травой. Устье распадка выходило к Драгоценке. Артель промывала неподалеку от устья пески старинной каторжанской выработки, ежедневно добывая около двух золотников. Сахалинцу и Томскому этого было мало, и они ежедневно посмеивались над собой: «Летом моем, а к осени завоем». Промывкой занимались только они двое. Остальные артельщики доставляли им в таратайках на берег Драгоценки песок с отвалов.
Семен работал, по целым дням не разгибая спины. Снова, как и много раз прежде, казалось ему, что на этот раз придет к нему в руки удача. И от этого не был ему в тягость однообразный и утомительный труд. Все эти дни он был весел и необычайно разговорчив.
Часто по вечерам, когда курили после ужина у костра, Сахалинец жаловался на бедную дневную выработку и вслух мечтал о том, чтобы поживиться золотом от китайцев, идущих за границу с таежных приисков. Он хвастался, что они с Томским не раз встречали и ощипывали до последнего перышка жирных фазанов, как называл он людей из-за Аргуни. У артельщиков от его рассказов разгорались глаза. Только один Семен возмущался и бросал Сахалинцу:
– Не знал я, какие вы с Томским соловьи-разбойники. Давно, видать, совесть пропили.
– Без совести, паря, ходить легче, – щуря косой глаз, лениво отзывался Сахалинец. А Томский, похохатывая, прибавлял:
– Нам совесть хуже двухпудовой гири. Нам ходить много приходится…
Однажды разгоряченный спором Семен запальчиво сказал Сахалинцу:
– Эх, и поганый же ты человек. У меня от твоих слов мороз по коже дерет. Тебя, как поганую муху, пришлепнуть следует.
Сахалинец не на шутку обиделся. Его косой глаз задергался.
– Еще не родился человек, чтобы меня шлепнуть! – крикнул он Семену. – А ты мне из себя святого не строй… Вишь, какой праведник выискался!
– Отчего ты на них так злобишься? Тебе-то китайцы какую межу переехали?
– Вот они мне где сидят, – похлопал Сахалинец себя по затылку. – На каждом прииске развелось их видимо-невидимо. Плюнь – попадешь в китайца. Из-под носу у нас золотишко рвут и ни копейки за это никому не платят. Прямо барахолка какая-то получается. Приходят в тайгу тайком и таким же манером обратно уходят. Сотни пудов золотишка каждое лето за Аргунь сплавляют. Да если бы моя власть была, так я бы границу на семь замков замкнул, ни одного китайца на нашу сторону не пустил.
Сахалинец возмущал Семена своей проповедью. Страшной и отвратительной казалась она Семену. Он вдоволь нагляделся на китайцев за две войны и научился уважать их как прирожденных работяг, у которых есть чему поучиться. И далеко не все занимались контрабандой. Многие из них работали старателями и сдавали намытое золото русской казне. Но если бы даже глухой стеной отгородили от них Забайкалье, разве сделалась бы лучше жизнь в том же Мунгаловском? Да никогда бы этого не было. Стало быть, видел Сахалинец только у себя под носом. «Мелко он плавает», – решил Семен, но не находил простых и понятных доводов, чтобы доказать Сахалинцу свою правоту. От этого он чувствовал глухое и непонятное раздражение и на себя и на Сахалинца, с которым перестал затевать спор, и несколько дней держался от всех в стороне.
Был в артели один человек – Михей Воросов из поселка Байкинского, с которым Семен сошелся ближе, чем с другими. Полагая, что только у них на Байке идет все плохо, Воросов решил однажды перекочевать в соседний, Чашинский поселок. Но там не зажился и через полгода надумал ехать в караульские станицы и попытать счастья в скотоводах. За шесть лет он девять раз переезжал с места на место, окончательно разорился и вынужден был снова вернуться в Байку, где осталась у него заколоченная изба.
О своих поисках лучшей доли Воросов умел рассказывать так, словно вышучивал самого себя. В одинаково смешном виде изображал он, как перешедшие из-за Аргуни хунхузы наткнулись на него в степи под Цурухайтуем и забрали у него двух коней, как, решив заняться ремеслом контрабандиста, в первую же поездку был он пойман таможенными и убрался от них в чем мать родила. Вынужденный почти голым вернуться на родное пепелище, Воросов пошел в приискатели. Вспоминая свои кочевые мытарства, он любил поговорить о том, что жизнь везде одинаково паршива, если нет человеку удачи. В его словах Семен узнал свое, выстраданное, испытанное на собственном горбу.
Однажды после обеда Семен уехал в Шаманку за печеным хлебом. Возвращаясь назад по тропинке между заросших тальником и полынью отвалов, он увидел на желтой макушке самого высокого отвала своего артельщика Фильку Чижова. Филька скатился на тропинку прямо к ногам Семенова коня, торопясь и заикаясь, сообщил:
– Я, паря, на карауле… Там у нас фазанов поймали. Жирные, кажись, попались. Сахалинец и Томский теребят их. Так что разживемся золотишком.
Семен бросил Фильке мешок с хлебом и поскакал. Подоспел он вовремя. Китайцев, пойманных на чистом месте, подталкивая в спины прикладами берданок, Сахалинец и Томский завели в густые кусты на берегу Драгоценки. Когда подъехал Семен, они уже стояли на коленях с поднятыми кверху руками. Томский и Воросов, чего никак не ожидал Семен от последнего, стояли с наведенными на китайцев берданками. Сахалинец, скаля обкуренные зубы, снимал с китайцев брезентовые пояса с кармашками, в которых они обычно носили золото. Остальные артельщики взволнованно наблюдали за ним горящими глазами.
– Что же это вы, ребята, делаете? И как только не стыдно вам! – закричал Семен, прыгнув с коня. Он думал, что ему удастся тихо и мирно уговорить артельщиков.
Сахалинец недовольно обернулся, взглянул на Семена с бешенством.
– А ты не шуми, не шуми, – угрюмо сказал он. – Не любо, так проваливай, без тебя обойдется. – И, видя, что Семен готов кинуться в драку, приказал Томскому: – Петруха, взгляни на него черным глазом. Пусть он нам обедни не портит.
Томский в одно мгновение направил берданку на Семена, Воросов отвернулся в сторону, артельщики криво ухмылялись. Сахалинец принялся за прерванное занятие. С минуту Семен стоял, размышляя, собираясь с духом, а потом коротким молниеносным ударом отшиб направленную в его грудь берданку, схватил Томского за горло и бросил наземь. Через секунду-другую берданка Томского уже была у него в руках. Передернув затвор, он вскинул ее на Сахалинца:
– Прикрывай лавочку, слышишь?.. Я тебя живо на тот свет… – докончить он не успел. Словно десятипудовая глыба земли свалилась ему на голову. Из глаз посыпались красные искры, как подломленные, подкосились ноги. Упал Семен лицом в промоину на сырой и прохладный ил, неловко подвернув под себя правую руку.
Когда Семен очнулся, в кустах оставались только китайцы. С туго связанными вместе косами, они по-прежнему стояли на коленях, низко потупив подбритые головы. Семен сел, потер свою налитую свинцовой тяжестью голову. В ушах гудело, во рту была сухая, противная горечь. Словно во сне он подумал: «Кто же это меня так трахнул?» – поднес к глазам руку, но крови на пальцах не было, понял, что голова цела. С трудом добрался до воды, напился и намочил виски. Шум в ушах не прекращался, но стало легче. Он снял с себя исподнюю рубаху и туго стянул голову. Только потом подошел к китайцам и тут заметил, что солнце давно закатилось.
Невесело рассмеявшись, Семен дотронулся до синей далембовой курмы ближнего китайца и, коверкая слова, спросил:
– Миюла золотишка?
Китаец вздрогнул и медленно поднял голову. В черных раскосых глазах его Семен увидел такое горе, такую щемящую покорность судьбе, что почувствовал приступ тошноты. Развязав косы китайцев, желая ободрить их, весело сказал:
– Ну, паря, ходи к себе, в Чифу.
Не веря в свое избавление, китайцы перебросились парой гортанных слов, встали с земли, закинули на плечи плохо слушающимися руками рогульки со скарбом. Ни одного слова жалобы не сорвалось с их запекшихся губ. Медленно побрели они гуськом по тропинке, часто оглядываясь назад. Семен понял, что они боялись выстрела в спину. Он пожалел их: «Работали, глядишь, бедняги, от зари до зари, целое лето, а теперь топают голенькие и пожаловаться не знают кому».
Артельщики ужинали у палатки. Сахалинец, завидев Семена, как ни в чем не бывало весело спросил:
– Ожил, едрена-зелена? И откуда это тебя ни раньше ни позже принесло? Не мог, холера, самую малость в Шаманке задержаться… Трещит голова-то?
Семен с ненавистью поглядел на него. А Сахалинец не унимался:
– А ведь это тебя Воросов звезданул. Мужик дрянцо, а рука у него тяжелая. Ты ему эту стуколку припомни. Мог бы, холера, полегче ударить…
– Давайте расчет, – сказал, насилу сдерживаясь, Семен. – С такими гадами больше знаться не хочу. Неохота связываться, а то бы я вас стаскал куда следует. А тебе, Михей, я когда-нибудь поверну глаза на затылок.
Воросов, часто моргая глазами, стал оправдываться:
– Да ты не сердись, Семен. Золотишко, мать его, попутало. Да разве бы я в другом разе ударил тебя? Сроду бы этого не было. А тут себя не вспомнил и брякнул…
Сахалинец, скаля зубы и подмигивая кривым глазом, спросил Семена:
– А перышки с фазанов тоже сыпать на весы?
– Себе возьми, может, подавишься. Мне чужих слез не надо.
– Ну, как хочешь, – поморщился Сахалинец и достал из берестяных сум маленькие с роговыми чашечками весы, на которых отвесил заработанную Семеном долю. Остальные артельщики, не подымая на Семена глаз, отмалчивались. Он взял завернутое Сахалинцем в тряпицу золото и пошел запрягать коня. Когда уезжал, Сахалинец крикнул ему в догонку:
– А жаловаться лучше и не думай! Себе дороже станет…
– Ладно, подлецы… В узком переулке мне теперь не попадайтесь…
Едва он уехал, как потребовали расчет и остальные артельщики. Они опасались, что Сахалинец и Томский сбегут от них со своей добычей. Сахалинец было заартачился, но вид артельщиков, вооружившихся берданками и топорами, заставил его быстро уступить. Отчаянно ругаясь, отвесил он каждому его пай, а потом откровенно признался:
– Ну, ребятки, вовремя вас Бог надоумил. Хотели мы с Петрухой нынче же податься от вас вместе с золотишком, да не выгорело оно.