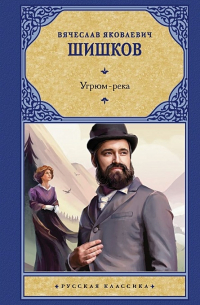Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
VIII
Торжества продолжались и на второй, и на третий день. Но Прохор Петрович в них не участвовал: он с отрадой отдался предписанному доктором покою и, кроме огорченной его поведением Нины, никого не принимал.
Гости разъехались. Со снежной поляны, где в зимней, средь лета, обстановке пирующие катались на запряженных в нарты оленях, слушали таинственные волхвованья двух шаманов, угощались мороженым, теперь убиралась возами соль, игравшая роль снега. Люди всех предприятий Громова стали на работы. Началось новое десятилетие, обещавшее Прохору Петровичу несметное, миллиардное богатство, а вместе с ним – блеск славы, вершину величайшего могущества.
Так, пламенея мыслью, Прохор бросил в огненной запальчивости гордый вызов миру.
Но он, видимо, не знал, как круты склоны всяческих вершин людских мечтаний, какие рвы выкопала жизнь вокруг престолов личного благополучия, в каких трущобах может оказаться человек, искатель тленной славы, и в какой мрак, вознося себя над всем, он может пасть.
Об этой простейшей мудрости сто раз твердила Прохору и Нина. Однако Прохор, на грани двух десятилетий, стал глух, стал слеп и черств гораздо более, чем прежде.
Вся душевная деятельность Прохора Петровича протекала теперь под знаком перечувствованных им живых сновидений.
Первый студный сон – стихийный пожар тайги, когда Прохор в страхе всего наобещал рабочим: «Ребята, спасайте мое и ваше», – а как прошла опасность, от всего отрекся. Второй сон – предкровавые дни и кровавый расстрел рабочих. Третий сон – мать-пустыня с двумя старцами, с ожившей Анфисой. Четвертый студный сон – торжественное пиршество, проклинающий сына отец, реальная тень Ибрагима-Оглы, воскресший из мертвых прах Шапошникова.
И все это вместе – стихия пожарища, галлюцинаций, призраки, кровь – нещадно било по нервам, путало мысли. Прошлое стало настоящим, и настоящее отодвинулось назад. Реальности прошлого плотно окружили его со всех сторон, восстали пред ним во всей силе.
Он жил в них и действовал, в этих реальностях прошлого.
А поступки текущего дня, все дела его, занятия, приказы служащим, разговоры, волнения ему грезились сном, проходили в тумане, касаясь сознания лишь одной своей гранью.
Но вся трагедия в том, что, обольщенный внутренним голосом алчности, ослепленный блеском славы и в погоне за нею, Прохор Петрович ничего этого подметить в себе не мог: он продолжал жить и работать так, как жил бы на его месте всякий иной человек, не замечающий помрачения своего главного разума.
Да, главный разум был помрачен, но величайший затейник – ум – ясен, и – действовал. Ясным умом окинув грядущее десятилетие, Прохор Петрович издал приказ: выработанный, дающий небольшие доходы прииск «Достань» пока что закрыть, подземные шахты его затопить водой, чтоб не грабили жулики. А всех рабочих с этого прииска перебросить на прииск «Новый», отходящий к петербургским хозяевам.Сюда же перебросить пятьсот землекопов с кончающихся дорожных работ.
Вести на прииске «Новом» работы в две смены, день и ночь. Работать способом хищников, как на земле неприятеля, то есть брать главные жилы и богатые россыпи, остальное бросать. Пусть петербургские дьяволы-хваты со своими высокопоставленными особами и лицами царской фамилии жрут объедки с обильного стола Прохора Громова.
– Это на всякий случай, – сказал он горнякам-инженерам Абросимову, Образцову и главноуправляющему Протасову. – Но я более чем уверен, что им ни в жизнь не оттягать у меня этого прииска. Шиш возьмут!
Однако с глазу на глаз с Протасовым Прохор сказал:
– Я хотел просить вас, Андрей Андреич, поехать в Питер и действовать там в отношении золотоносного участка так, как бы действовал я, – с широким размахом, не щадя средств.
– Так действовать, как действовали бы вы, Прохор Петрович, я не могу, конечно.
– Да, понимаю. Там пришлось бы взятки давать. Не будет ли там в своей роли Парчевский? Как вы думаете?
– Я думаю, ежели говорить откровенно, что в высоких сферах прииск от вас отнять предрешено. И вы не в состоянии будете этому противиться. В деловых разговорах с юристом Арзамасовым я узнал, что акционерное общество, кроме своего основного капитала в пять миллионов рублей, получило от государственного банка десятимиллионную субсидию, а в резерве у них бельгийские и английские капиталисты, крупные тузы. Акционерное общество, кроме вашего участка, скупило у многих золотопромышленников их предприятия, так сказать, на корню. Так что... Сами видите...
– Да, – вздохнул Прохор. – Ну, плевать! На открытые Образцовым золотые участки сейчас же сделать заявку.
– Сначала надо их осмотреть.
– Ладно. Как-нибудь на днях...
Вторым приказом Прохора Петровича было: с первого числа понизить заработок всем рабочим на двадцать процентов, рабочий день во всех предприятиях удлинить на два часа. Составить новые договорные условия. Недовольных немедленно рассчитать с выдачей им вперед двухнедельного заработка.
Трудящийся люд всем этим, как внезапным громом с безоблачного неба, был ошеломлен. Но партии новых рабочих, прибывающих из Европейской России, и толпы нанятых по отдельным деревням сибиряков – все это резко меняло обстановку и сразу снизило поднятую было бучу среди старых громовских рабочих. Крикливые голоса притихли, огонь в глазах угас, народу вновь предстояло покориться своей прежней доле, изменить которую не в силах оказалась и пролитая кровь.
Итак, все по-старому. Лишь сотни трупов с простреленными спинами перевернулись под землей. А поверх земли – зубовный скрежет, потайные слезы, пьянка.
Так Прохор Громов начал свое новое десятилетие, уподобившись евангельскому псу, пожирающему свою блевотину.
Блестящим этим началом был сбит с панталыку и Андрей Андреевич Протасов. А потрясенная Нина растерялась:
– Что мне делать? Что делать? Нет, это сумасшествие...
Но Прохор, зная противоборство Нины, ни в чем теперь с нею не советовался, он вовсе выключил ее из своего обихода, отгородился от нее стеной оскорбительного молчания и грубых фраз, ходил возле нее с выпущенными, как одичалый кот, когтями.
Нина остро чувствовала это, но, замыкаясь в свой собственный мир, переживала беду молча. Она все-таки решила встать по отношению к мужу на путь борьбы. То есть обратиться к тем же практическим мероприятиям, что и прежде, но в широком масштабе. Иного пути умерить алчность, защитить трудящихся и этим самым предотвратить гибель всего дела она не видела. Приступая вместе с Протасовым к организации крупных работ, она очень боялась опасных для себя последствий. Она знала, что до крайних пределов взбесит мужа, что пьяный муж может убить ее своими руками или подослать убийц.
Такому предчувствию Нины, может быть, и преждевременно и, пожалуй, очень жестоко, помог Протасов.
Однажды поехал он вместе с Ниной на одну из таежных речонок, где им были открыты графитные залежи.
– Ты можешь здесь начать свое выгодное дело, – сказал Протасов. – Эту мою находку я пока в секрете держу. Богатый графитом участок я дарю тебе, Нина. Но... Надо все обдумать, все взвесить. Дело в том, что Прохор Петрович для меня перестал существовать как человек, как цельная личность. Ореол гениальности, которым я был вначале обольщен, окончательно померк в нем. Та глупость, которую он делает сейчас, обнаруживает в Прохоре Петровиче, прости за выражение, потерявшего совесть готтентота. На двадцать процентов снизить рабочим заработок, на два часа удлинить день – ведь это черт его знает что!.. Теперь надо ожидать новой забастовки, новых расстрелов. Но я предвижу, что Прохор Петрович или будет убит рабочими, или уничтожит себя сам. Это ясно. И вот теперь самое главное. – Голос Протасова задрожал, грудь вздымалась взволнованно. – Любишь ты меня?
Вопрос поставлен открыто, от судьбы к судьбе, и для Нины совершенно неожиданно.
– Да, – без запинки ответила Нина.
Протасов вовсе не предвидел столь быстрого ответа и, еще более волнуясь, спросил:
– Можешь ты быть моей женой?
– Нет. Я продолжаю любить Прохора, я чувствую с ним внутреннюю связь, и я не в силах расторгнуть ее.
Они сидели у костра пред кипящим чайником. Трое сопровождавших их стражников обедали возле другого костра, в отдалении.
Притворяясь хладнокровным, Протасов достал из кармана бумажник, из бумажника – докладную записку прокурора Стращалова на имя министра юстиции об убийстве Анфисы Козыревой, молча подал эту записку Нине, а сам пошел купаться.
Нина читала долго, из глаз ее капали слезы прямо на бумагу, чернила расплывались, и плыла пред Ниной прошедшая юность ее. «Бедная Анфиса, бедная я!» – вздыхала Нина, и душевный мрак окутывал ее сплошным туманом.
Освежившийся и как будто еще более спокойный, Протасов сидел подле нее.
– Таинственные слухи об убийстве милой Анфисы моим мужем мне давно знакомы. – И Нина подчеркнуто набожно перекрестилась. – Но я им, дорогой Андрей, все-таки не верю. Уж ты прости меня. Может быть, тебе это неприятно, как неприятно и то, что я помолилась за душу мученицы... Но уж... я такая.
Протасов, перестав притворяться спокойным, задышал чрез ноздри, бурно.
– Я имею и другие доказательства того, что убийца Анфисы – Прохор.
Нина не ответила.
Не понимая, почему Нина молчит, Протасов начинал раздражаться. Ему страстно хотелось, чтоб Нина так же крепко поверила, что муж ее убийца, как в это верил он, Протасов.
– На пристани я встретился с политическим ссыльным Шапошниковым, родным братом того, который сгорел вместе с Анфисой, – чуть вздрагивающим голосом сказал Протасов. – Этот Шапошников теперь служит у нас в конторе. У него предсмертные письма брата. В них...
– Ах, не верю я ни вашим Шапошниковым, ни вашим прокурорам! – раздраженно прервала Нина. – Я верю здравому рассудку. Прохор до безумия любил Анфису, поэтому он не мог ее убить. Он скорей себя бы убил.
– Отелло тоже любил Дездемону. А между тем...
– Это выдумал Шекспир. Он лжец!
– Это не выдумка. Это неписаный закон человеческих страстей.
Вновь наступило, как до отказа натянутая струна, тугое молчание.
– Итак, это твое последнее слово?
– Да, последнее. При сложившихся обстоятельствах я не могу быть твоей женой. Тем более что наши верования идут слишком разными путями.
– Ах, Нина! Мне скучно десять раз доказывать тебе одно и то же. Прямо до чертиков...
– Вот, ты говоришь – борьба требует жертв, крови. Отец Александр говорит, что борьба должна быть бескровной, идейной. Где же правда? Эта разноречивость утверждений прямо ужасна. Она угнетает, мучает меня.
– Брось, Нина! Твоя игра в наивность, прости, начинает раздражать меня. Ты прекрасно понимаешь, где правда. Но тебе, рожденной в богатстве... Погоди, погоди! Дай кончить. Твой либерализм, конечно, – красивый жест. Твой альтруизм есть результат поповского запугивания тебя каким-то Страшным судом, каким-то «тем светом». При всех твоих плюсах натуры в тебе много наследственных минусов, в которых ты, в сущности, и не повинна. Ты, дочь богача, и не могла быть иною.
Нина в упор смотрела на Протасова большими печальными глазами. Протасов, больно стегая Нину словами, залюбовался ею. «Какая ты красавица!..» – чуть не проговорил он вслух.
– Спасибо за лекцию... Но я ведь не курсистка, Андрей, – иронически сказала Нина. – Так что же ты от меня все-таки требуешь? – внезапно загораясь, почти вскрикнула она.
Протасов привстал с земли на колени и, заложив руки в карманы штанов, приготовился высказать свою мысль до конца.
– Я требую того, чего ты не в состоянии исполнить, – с грустью начал он и сделал маленькую паузу. – Я требую, чтоб ты все свое имущество отдала на борьбу освобождения народа. Я требую, чтобы ты стала такой же неимущей, как и я. Ты погляди, какие муки терпят так называемые «царские преступники». Ими переполнены тюрьмы, каторга, ссылка. Я весь заработок отдаю им. У меня за душой ни гроша... Я требую... не требую, а нижайше прошу тебя стать ради высокой цели нищей. – Он опять сделал паузу, подкултыхал на коленях к взволнованной Нине, неосторожно опрокинул бутылку бургундского и взял Нину за руку: – Тогда мы, равные с тобой во всем, начали бы новую жизнь. Твоя совесть, Нина, стала бы сразу спокойной, и в этом ты обрела бы большое для себя счастье. Но нет, – вздохнул Протасов, выпустил ее руку, закрыл глаза и отвернулся. – Этого никогда не будет. Нет...
Тогда Нина бросилась ему на грудь, заплакала и сквозь слезы засмеялась.
– Андрей, Андрей!.. Какой ты чистый, какой ты замечательный!..
– Я грязный, я обыкновенный... Меня даже упрекают, что я пляшу под дудку капитала... Нет, плохой я революционер... – с холодным равнодушием принимая ее ласки, сурово ответил Протасов. Он поднял бутылку, взболтнул ее. – Вот... и бутылку опрокинул. Все вытекло, – сказал он, пробуя улыбнуться. И вдруг почувствовал, как внезапно, от близости любимой женщины, все забурлило в нем, кровь одуряющим вином бросилась от сердца по всем жилам. Он – красный, растерянный – хотел впервые обнять Нину, но все-таки сдержался.
– А хочешь, я нарисую тебе другой проект возможного существования? – утирая слезы и бодро улыбаясь, сказала Нина.
– Да. Хочу.
Глаза Нины загорелись творческим воодушевлением.
– Я забираю Верочку, забираю все свои ценности, говорю Прохору: «До свиданья, я тебя не люблю, я покидаю тебя навсегда». Затем уезжаю с тобой, Андрей, к себе на родину. У меня же там богатейшие дела, сданные на срок в аренду. Есть и золотые прииски. Мы на этих насиженных местах организуем с тобой широкую общественную работу. Мы все свои предприятия передаем рабочим. Пусть они будут настоящими хозяевами, а нам с тобой платят жалованье, ну, ну, хоть по десяти тысяч в год каждому из нас. И ты будешь мой муж, и я буду женой тебе.
– И мы будем жить так, пока нас не арестуют, – с насмешливой жалостью улыбнулся Протасов и поцеловал Нине руку. – А нас арестуют ровно через месяц после того, как мы сделаем рабочих хозяевами. Нас засадят в тюрьму, рабочих разгонят, богатства отберут в казну. Вот и все. Ты этого хочешь?
– Нет, я этого не хотела бы, – чрез силу засмеялась Нина.
Но вот она вся изменилась: как будто сойдя со сцены и сбросив костюм актрисы, она оделась в свой обычный наряд. Лицо ее стало серьезным, в глазах появился особый блеск душевного подъема.
Протасов отступил на шаг, с боязливым интересом взглянул на нее.
– Милый Андрей! – сказала она решительным голосом. – Не верь ничему, что ты от меня только что слышал. Это фантазия девчонки. Стать по твоему рецепту нищей я не могу и не желаю. Нет, нет! Я должна жить и умереть в том звании, в котором поставила меня воля Бога.
Протасов сразу почувствовал, как между ним и Ниной встала стена неистребимых противоречий. Он понял, что эту стену нечего и пытаться свалить. Его брови гневно были сдвинуты, и выразительные губы обвисли в углах. Лицо стало желтым, больным.
– Андрей, милый! Ты уже не молод. Твоя голова вот-вот поседеет. И здоровье твое стало сдавать. Тебе не к лицу принадлежать к касте революционеров-безбожников. – Нина порывисто приблизилась к Протасову, скрестила в мольбе руки, и голос ее зарыдал: – Заклинаю тебя, будь добрым христианином! Окинь большим своим умом тот путь, куда зовет Христос. Прими этот путь – он зовется Истиной. И жизнь твоя пойдет в добром подвиге. А сам ты...
– Простите, Нина Яковлевна, – резко отвернулся от нее Протасов. – После стольких лет, проведенных с вами, после стольких моих с вами бесед на пользу вашего развития мне крайне печально, поверьте, крайне печально видеть в вашем лице новоявленную квакершу! Простите, но этот тип женщины давным-давно устарел. Я теперь ясно вижу, какой вы друг рабочих...
У Нины повисли руки. Протасов отошел от нее и крикнул стражникам:
– Ребята! Пора!..
Доктор ездил от Прохора к Петру Данилычу, от сына к отцу. Впрочем, старик мало нуждался в помощи доктора. Он предъявил Прохору требование о выдаче его собственных, Петра Данилыча, денег. Прохор послал отца к черту.
– Живи, где живешь. Питаешься? Какие деньги тебе еще? Спасибо за скандальчик. Очень жалею, что не убил тебя тогда. Предупреждаю, что если и впредь будешь раздражать меня, попадаться мне на глаза, знай, что камера в сумасшедшем доме тебе обеспечена.
– Ну, будь здоров, выродок. – Старик грозно застучал в пол палкой, затопал, заорал: – Знай и ты, чертов выродок! Я завтра же еду в Питер к царю, все ему про тебя открою, подам прошение, десять соболей в конверт суну... Царь от тебя все отберет, тебя велит повесить на дереве. Покачаешься, убивец, в петле-то!..
Сбежавшимся на звонок лакеям Прохор сказал:
– Уберите от меня этого сумасшедшего, или я вышвырну его в окно.
В этот же день у Прохора было бурное объяснение с Ниной. В конце концов дело уладилось: Нина уверила мужа, что старик будет отправлен в Медведево, а если припадки буйства станут с ним повторяться, она, человеколюбия ради, снова пристроит его в психиатрическую лечебницу.
На самом же деле Нина распорядилась так: она дала старику векселями и наличными пятьдесят тысяч из своих средств, он выдал подписку, что никаких претензий к фирме Прохора Громова больше иметь не будет, уехал с женой в село Медведево, в свой прежний дом, открыл большую торговлю. Анна Иннокентьевна сделалась богатой купчихой, завела крупное хозяйство; сердце ее, выкинув Прохора, успокоилось – она стала еще усердней жиреть.
Прохор ходил петухом, хохлился, пил. Руки его начинали чуть-чуть трястись. То и дело бормотал себе под нос:
– Не боюсь Ибрагишки... Не боюсь Ибрагишки...
Ездил по работам один, с двумя револьверами, с винтовками и штуцером.
Вскоре получилось известие, что мануфактурно-продуктовый склад трех лесопильных заводов ограблен тысяч на десять шайкой бандитов. У Прохора утратилась острота ощущений к малым потерям и прибылям: его мечты упирались в миллиард, в сравнении с которым все остальное – плевок. Поэтому он отнесся к ничтожным убыткам равнодушно; только сказал:
– Я знаю, чье это дело. Ибрагим шалит.
Исправник Федор Степаныч со стражниками и следователь тотчас же выехали на место покражи.
У Наденьки, как это ни странно, ночевал мистер Кук. Вместе подвыпили. Мистер Кук оставил Наденьке восемьдесят семь рублей тридцать копеек – все, что с собой захватил, – и в пьяном виде пролил на ее грудь много слез. Всплакнула и Наденька.
Чрез три дня исправник возвратился. В новом мундире с золотыми погонами – взгляд воинственный, усы все так же вразлет – он прибыл с докладом к Прохору Петровичу.
– Следствием выяснено, кто ограбил склад, – говорил он хозяину. – На стене склада надпись, представь себе: «Здраста Прошка, это я Ыбрагым Оглыъ». Я нарочно списал в протокол с ошибками. На, полюбуйся. Но я клянусь тебе, Прохор Петрович, что проклятый каторжник моих лап не минует. Клянусь!
Прохор, к удивлению исправника, в ответ лишь ухмыльнулся в бороду: «Плевать... Я не боюсь его, не боюсь...» – поерошил нечесаную гриву волос, подмигнул исправнику:
– Приходи, Федя, сегодня вечерком на мою половину. Бери гитару да Наденьку. Я скличу Стешу с Ферапонтом, еще старика Груздева. Ну, еще кого? Повара своего позову да кучеров с кухарками, Илюху можно... Вообще попроще...
– Прохор Петрович, – мазнул по усам исправник и завертел глазами. – Удобно ли мне? Ведь я все-таки исправник... А тут – кучера.
– Убирайся к черту! Должен за честь считать! – крикнул Прохор, и руки его затряслись. – Где присутствую я, там все на высокой горе. И никаких «удобно ли».
Музыкальные вечеринки, изредка устраиваемые Ниной, мало прельщали Прохора Петровича. Там бывало неплохое струнное трио; жена инженера мадам Шульц хорошо играла на рояле, сама Нина тоже не прочь иногда блеснуть своим голосом, а по части модернизованной цыганщины частенько отличалась очаровательная Аделаида Мардарьевна.
Но Прохор Петрович притворялся, что в музыкальном искусстве он ничего не понимает, даже в шутку как-то сказал: «Когда брекочат на клавишах, мне хочется, как собаке, выть». Его появление среди гостей всех немножко смущало, все почему-то ждали от него или оскорбительного намека, или явной грубости; настроение сразу снижалось, непринужденность меркла. Самое лучшее, конечно, если Прохор Петрович сядет к зеленому столу перекинуться в винтишко, проиграет рублей двадцать и уйдет.
– Куда же ты? – остановит его Нина Яковлевна.
– Прохор Петрович, что же вы?! – хором воскликнут обрадованные гости.
– Да так... Пройтись. Скучновато у вас: ни драки, ни скандалов. А главное – на винцо ты очень скуповата, Ниночка. – И ко всем: – Вы, господа, требуйте от нее выпивки... Какого черта, в самом деле! Я прекрасно знаю, например, что мадам Шульц пьет вино, как лошадь...
– Ах, что вы, что вы! – отмахивается та румяными ручками, пытаясь состроить жалкую гримасу смеха.
Все натянуто хохочут. Смеется и Прохор.
– А мистер Кук, – продолжает он, – в прошлое воскресенье вылакал в трактире четверть водки, скушал целого барана и приполз домой на бровях...
– О нет, о нет! – отчаянно трясет щеками и весь вспыхивает сидевший на пуфе у ног Нины почтенный мистер Кук. – Чрез щур сильно очшень... очшень преувеличен, очшень колоссаль! Один маленький румочка... Ха-ха-ха! Как это, ну как это?.. «Пьяный приснится, а дурак – никому». Ха-ха-ха!..
Под дружный, на этот раз естественный смех Прохор Петрович, уходя, бросил:
– Да, вы, мистер Кук, правы: дурак никому присниться не может, даже той, у кого в ногах сидит...
– О да! О да! – не сразу поняв грубость Прохора, восторженно восклицал счастливейший Кук и сладко заглядывал в очи божественной миссис Нины.
Вообще чопорных журфиксов жены Прохор Петрович избегал. Он любил веселиться по-своему...
Вот и сейчас – гулеванье его началось озорное и пьяное. На двух тальянках мастерски играли: кабацкий гармонист слепец Изумрудик и кучер Яшка – весь в кумачах, весь в бархате, на берестяных рожках – три пастуха хозяйских стад.
Огромный кабинет набит махорочным дымом, как осеннее небо облаками. Старый лакей Тихон затопил камин. Накрытый скатертью письменный стол – в обильной выпивке и простенькой закуске. Здесь командует Иннокентий Филатыч Груздев. Он всех гостей без передыху угощает, а сам не пьет. Прохор же Петрович выпивши с утра, однако в попойке от кучеров не отстает и не хмелеет. Только басистый голос его болезненно хрипит и алеет лицо запьянцовской кровью.
Гостями повыпито изрядно. Всех потянуло послушать хороших русских песен.
– На рожках, на рожках! – забила в ладоши, запрыгала красотка Стеша. – Прохор Петрович, прикажите...
Мрачный Прохор поднес трем пастухам по стакану водки, старику сказал:
– А ну, коровий полковник, разутешь.
Пастухи залезли на широченную кушетку и, подогнув в грязнейших броднях ноги, уселись по-турецки. А гости – плечо в плечо – прямо на полу, спиной к пылавшему камину, лицом к рожечникам.
– Какую пожелаете? – спросил старик и упер в пол конец саженной своей, обмотанной берестою дуды.
красивым контральто подсказала Стеша.
Прохор еще больше помрачнел, поморщился. Стеша припала щекой к его плечу. Пастухи сплюнули на тысячный ковер, отерли губы рукавом и, надув щеки, задудили.
И вот разлилась, распустила павлиний хвост седая песня. Переливчатый тон рожков был грудаст и силен. Мягко и певуче, с каким-то терзающим надрывом, вылетали звуки то круглыми мячами, то плавной и тугой струной... Особенно выразительно выговаривал рожок меньшого пастуха – Ерошки. Выпучив зеленоватые глаза и надув брюхатенькие щечки до отказу, Ерошка со всей страстью вел главную мелодию... И казалось, будто сильный женский голос во всю широкую грудь и от самого сердца звучит без слов. И если закрыть глаза – увидишь русскую бабу, пышную и румяную. Вся в кумачах, скрестив на груди загорелые руки, она плывет над полями по солнечному воздуху и поет, поет, не зная зачем, не зная для кого...
Вкладывая в певучий рожок все мастерство, Ерошка еще сильней надувает лоснящиеся щеки; ему вторит свирель Антипки, и, как складный фон, расстилает под песню свой басок дуда «коровьего полковника».
Насыщенная большой тоской проголосная песня сладко сосет самые сокровенные чувства человека. Все затаили дыхание, кой у кого блестит на глазах слеза. А трехголосная мелодия, раздирая тишину кабинета, царит и царствует. Она нежно хватает за сердце, умиляет огрубевшую, всю в мозолях душу: и просторно душе людской, и грустно.
И вспоминается расслабевшему от песни слушателю далекий, но такой родимый край давно утраченного счастья, где все друзья, где владычествует пленяющая ласковость и ничем не омраченная любовь. Горе, горе человеку, забывшему ту чудесную страну младенческой неоправданной мечты!
– Ну песня, ну песня! – растроганно покрутил головой старик Груздев. – Как по сердцу гладит... Эх ты!
Рожки взрыдали последний раз и смолкли. Все сидели, опустив огрузшие воспоминаниями головы. Старый хозяйский лакей Тихон стоял, прислонившись к косяку окна; ему не хотелось утирать слез, катившихся на черного сукна сюртук.
– Слушайте дальше слова этой песни, – глубоко передохнув, будто захлебнувшись вздохом, проговорила Стеша. – Слушайте, пожалуйста...
Смысл этих слов больно уязвил Прохора Петровича. «Ну, прямо про меня», – угрюмо подумал он и, сразу вскипев, грубо оттолкнул от себя замечтавшуюся Стешу.
– К черту эту панихиду!.. Эй, гармонист! Яшка! Сыпь веселую, плясовую! – крикнул он.
И весь строй кабинета переключился на гульбу. Бражники потянулись к чаркам, зашумели. Гармонисты стали налаживать свои тальянки.
– А ну спляшем!
Дьякон сбросил рясу, прогудел:
– Уберите подальше ваши стульчики. А то я их, неровён час, покалечу.
Исправник, желая угодить хозяину, снял шашку, принялся с помощью Тихона стаскивать мундир, – он тоже готовился к плясу. Жеманная Стеша и мясистая кухарка Аннушка, похохатывая, оправляли у зеркала смятые прически. Захмелевшая Наденька тянула с молодым пастухом густую душистую сливянку. Илья Петрович Сохатых зверски икал и тщетно придумывал, чем бы распотешить хозяина. Наденька затянулась из крепкой трубки пастуха, закашлялась и крикнула:
– Ну, а что же вы плясать-то?!
Персидский ковер скручен в тугое бревно, водружен к камину. Десятипудовый жилистый дьякон встал против семипудового брюхатого исправника. Их разделяло пространство шагов в десять.
– Готово?
– Готово.
– Вали!
Изумрудик с Яшкой хватили на тальянках. Дьякон повел плечами, оглушительно присвистнул и с гиком:
– Иэх, кахы-кахы-кахы-кахы! – подобно подъятому на дыбы коню, сотрясая пол и стены, дробно протопал по скользкому паркету.
отбрякивал он пудовыми сапогами, как копытами.
Исправник тоже подпрыгивал, тряс брюхом, сверкал лакировкою сапог, звякал шпорами; он сразу же вспотел, обессилел и, отдуваясь, повалился на кушетку.
– Слабо, слабо! – кричал ему дьякон и, посвистывая разбойным посвистом, с такой силой ударял в пол каблуками и подметками, что по кабинету шли гулы, как от ружейных залпов.
– А ну, вприсядку! – И взъерошенный, страшный видом Прохор выскочил на средину круга.
Гармонисты взревели громче, к ним пристали рожечники, и даже старый Тихон, забыв солидность, начал дубасить самоварной крышкой в серебряный поднос.
– Эх, кахы-кахы-кахы-кахы-кахы!!
От ярого топота двух богатырей – дьякона и Прохора – подпрыгивали окна, стоял грохот, звон в ушах, как на войне, и казалось, домище лезет в землю.
– Вали-вали-вали! – подзуживали гости.
Вот хрустнул, скоробился фасонистый паркет, изящные куски мореного дуба и розового дерева в панике поскакали из-под ног, как скользкие лягушки.
Железная натура Прохора Петровича, казалось, клала на обе лопатки все понятия о человеческой выносливости, природа зверя превозмогала все: после угарного во всю ночь пьянства, опохмелившись холодным квасом и ни минуты не вздремнув, он в семь часов утра, прямо с пира, уже был в своем кабинете на башне. А кучер Яшка и две кухарки с поваром, еще не проспавшиеся, валялись под столом в домашнем кабинете Прохора Петровича, где шла ночная кутерьма. Всеми оставленный слепец Изумрудик, икая, бродил как дурак по коридору, отыскивал выход. Пастухи, забыв про коров, спешно доедали остатки. А Илья Сохатых, в плясе разбивший себе бровь, лежал, раскинув руки, посреди кабинета, моргал отекшими глазами, охал:
– Су... су... супруга моя сильно беременна. А я... а я, рангутан, валяюсь, как Бельведер Аполлонский... И нос в табаке. Курсив мой.
Фронт работ, суживаясь в одном месте, расширялся в другом. В этом году предстояли огромные расходы по оборудованию новых предприятий, золотоносных участков, каменноугольных разработок. Посланные в управление железной дороги образцы каменного угля получили от экспертизы высокую оценку.
Прохор Петрович взял крупные заказы на этот уголь и был углублен сейчас в подсчеты и соображения, как развернуть во всю ширь добычу угля, как перебросить уголь на железнодорожную линию. Он широко, умело пользуется большой своей технико-экономической библиотекой, толково подобранной инженером Протасовым. Он сначала раскинет своим умом «что и как», а потом, во всеоружии знаний, поведет деловой разговор с инженерами. Они будут удивляться гению Прохора, будут уступчивее в цифрах. К Прохору едут на службу из южной России три инженера, специалисты по углю, и пятеро штейгеров.
Занятия Прохора то и дело прерывают телефонные звонки по пяти проводам, брошенным в башню. Он знает, что в конторе идет сейчас расчет рабочих, не пожелавших остаться на пониженном заработке. Таких набралось свыше пятисот, среди них – приисковая «кобылка», шпана. Но большинство трезвые, почтенные люди, которым опостылело расшвыривать жизнь свою в немилой тайге. Всем им готовится огромная барка и пароход в селе Разбой, на Большом Потоке. Поедут рекой и железной дорогой на родину.
Однако на лицах кой-кого из них лежит печать смерти: село Разбой мечено кровью и темным перстом судьбы.
Зато ум Прохора четок и ясен, он не закрыт никакими печатями, не мечен никакими перстами. Но где-то в подсознании Прохора и там, за спиной, топчутся призраки: Прохор слышит мстительный шепот убитых рабочих, плач старухи дегтярницы с парнем, предсмертный хрип Константина Фаркова и визги железной пилы – пила режет череп.
Прохор ежится, поводит лопатками, – ему неприятно, он гонит прочь это туманное чувство смятения, но все-таки кто-то стоит за спиной. Прохор силится втиснуть свой смысл в мудрость книги. Строчки ясны и четки, и ясен ум Прохора. Но вот чрез печатную строчку: «коксование имеет целью увеличение содержания углерода...» – пересекая ее, шмыгнул из пространства в пространство рогатый чертенок. Прохор ладонью – хлоп! – нет ничего. А чертенок меж тем завизжал, завизжал и уселся Прохору на нос. Прохор – хлоп! – комаришко.
– Ага! Да это же комар, а не черт, – обрадовался Прохор и стал читать дальше. Ныли глаза. Болело под черепом. Нездоровилось.
Вдруг что-то ударило Прохора в спину мягко, как мячиком. Прохор, передернув спиной, оглянулся. Пусто. Тихо. Потряхивает цепью волк. Прохора потянуло к окну. Он перевесился вниз из окна, обомлел, закричал:
– Шапошников! Шапошников! Шапошников!..
Бородатый человек, казавшийся сверху кубышкой, задрал вверх голову, потешно проквакал:
– «Что вам угодно?»
Прохор провел по глазам рукой, как бы стараясь очухаться.
Спустил с привязи волка, уложил его возле кресла: «Куш тут!»
У стола стоял лысый низенький Шапошников.
– Понимаю... Через окно? – ухмыльнулся Прохор.
– «Да, через окно. Как сыч».
– Ну и черт с тобой в таком случае. А я тебя ни капельки не боюсь, ни капельки не боюсь, – пятился Прохор.
– «И я... т-т-тебя тоже», – сказал Шапошников.
– Но ведь ты сгорел?
– «Ну и что же. С-с-сгорел, а вот теперь восстал из пепла. Ш-ш-штоб мстить тебе».
– За что? – И Прохор, стуча зубами, начал подсвистывать к себе волка, но волк лежал, закрыв глаза. – За что же мстить? – повторил Прохор и стал подкрадываться к лежавшему на столе револьверу.
– «Ну что ж, на, стреляй, я не трус, я бородой закроюсь. На, на, на», – как слепой, водил Шапошников белыми пальцами по револьверу. Но пальцы были как дым, как туман: они обтекали револьвер, не в силах сдвинуть его.
У Прохора от страха задрожали руки, задрожал язык.
Вдруг волк вскочил и с ворчаньем бросился к выходу. По лестнице грузно подымался исправник с нагайкой в руке.
– Люпус, на место! – крикнул на волка Прохор и, бледный, сел в кресло, зябко вздрагивая. Шапошников скрылся.
– Фу-у... Жарища... Двадцать пять в тени, – распахнул исправник чесучовый, мокрый под мышками китель.
– А я замерз. Виденица у меня...
– Брось. Это со вчерашнего перепою... И, представь себе, каков мерзавец.
– Кто, Шапошников?
– Да что с тобой? Ты про какого Шапошникова? – И Федор Степаныч с тревогой взял Прохора за руку. – Да, жарок. Ну-ка, язык! Н-да, налет. Дрянь дело. Больше кочанной капусты ешь, квашеной. И ничего не пей. А докторишкам не верь, они тебе наскажут. А я с неприятностью. Ибрагим-Оглы ночью, пока мы плясали...
Но Прохор не слышал его. Из-за шкафа выглядывал бородатый лик Шапошникова. Прохор погрозил ему пальцем. Борода и лысина спрятались.
– ...и ускакали, дьяволы. Нет, надо какие-нибудь меры. А то он жить не даст.
– Кто? Шапошников?
– Ибрагим, Ибрагим! Прохор Петрович, голубчик, что с вами?
– А я вот занимаюсь каменноугольной проблемой, – взбодрился Прохор. – Видишь, книги, вот заметки кой-какие набросал, планы...
Из-за шкафа опять высунулся на половину туловища Шапошников и потряс бородой. Прохор незаметно взял револьвер и прицелился в длиннобородого гостя. Исправник вскочил, схватил Прохора за руки.
За окном, мимо башни, с гиком мчались пятеро всадников.
– Он! Он! – заорал исправник и все пять пуль пустил в удалявшуюся кавалькаду. – Бандиты! Черкес!