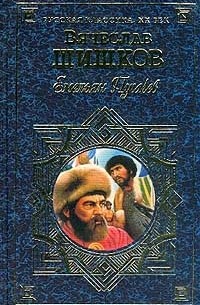Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
2
Ночью прошел дождь. Наутро, чем свет, Остафий Долгополов правился по холодку вперед. В его душе снова мир и благодать. Страх смертного часа скользнул над его душой, как темный сон. «А чего тут слюни-то распускать... Себе дороже», – думал он, беспечально посматривая на созревшие, ожидавшие хозяев нивы.
Но хозяев не было, хозяева разбежались по лесам или устремились за злодеем Хряповым, чтоб под его рукой вершить бессмысленное по своей жестокости дело.
– Погоняй, погоняй, паренек! – покрикивал Долгополов вознице. – Три копеечки прибавлю тебе...
Прошлую ночь Долгополов ночевал в бане вместе со странником старцем Каллистратом. Оный странник пробирается «сиротскою» дорогою на реку Иргиз, во святые обители всячестного игумена Филарета. А идет он из-под Макарьева и на своем пути вот уже четвертого встречает Петра Федорыча. «Оные злодеи только путик гадят истинному царю-батюшке, кой, по слыху, из Башкирии к Каме подается», – печаловался странник Каллистрат. Эти ложные Петры Федорычи, по его словам, лишь одну свирепость по земле творят, а никакого уряду для крестьянства не делают. Грабят, жгут, убивают правого и виноватого. Видел он в одном месте семьдесят два человека удавленных: господа и слуги их, попы и крестьяне из упорствующих.
Да, да, да... Много самозванцев развелось, уж не заделаться ли и ему одним из них, мечтал Долгополов, погулять, поколобродить, великие капиталы приобресть, а как придет опасность, можно и в кусты. «Нет, годы мои не те, супротив государя – стар... Да и страшновато... А уж лучше я свои великие дела вершить учну».
Он вспоминает свои недавние разговоры с яицкими казаками. Как-то зашел он в избу к полковнику Перфильеву. Зачалась легкая выпивка, душевные разговоры потекли. Долгополов, прикинувшись пьяненьким, между прочим говорил ему:
– Да, брат, Афанасий Петрович... В бороде царь-то наш, в бороде... Да еще в черной бороде-то. А ведь в Ранбове я без бороды государя-то видел, чисто бритого... И волосом он не так темен был... Чегой-то наш батюшка мало схож с тем, кого я видел... Ой, прошибся я...
Помолчав, Перфильев отвечает ему:
– Ежели кому хошь бороду отрастить, лицо переменится. Взять, скажем, меня. Али тебе бороденку сбрить, хоть плевенькая она, а и твое лицо изменится, не вдруг признаешь.
– Да, это так, – раздумчиво соглашается Долгополов и сопит.
Перфильев же выпил чарку, закусил икоркой да опять:
– А у тебя, Остафий Трифоныч, кабудь есть что-то на языке еще... Так уж ты без опаски говори, я не обнесу, не бойсь.
Тогда Долгополов тоже выпил для куражу полчарочки, прикинулся еще более охмелевшим, подъелозил по скамейке к хозяину, обнял его за плечи и, припав мокроусыми губами к его уху, задыхаясь, прошептал:
– Да уж, мотри, царь ли он?
Сказав так, Долгополов испугался. Он знал, что Перфильев человек свирепый, чего доброго, схватит нож и поразит его прямо в сердце. Опасливо, с кошачьими ужимками, он пересел со скамейки на стул против хозяина и, вобрав голову в плечи, притаился, не сводя с хмурого, в сильных оспинах, лица Перфильева своих ласково-покорных, выжидающе-хитрых глаз.
Но Перфильев и не думал озлобляться, он только шумно задышал и унылым голосом промолвил:
– Ежели по правде баять, мы и сами промеж собой балакаем: не царь он. Да уж, коли в дело вступили, не для чего раком пятиться. Ну, сам ты посуди: как я домой вернусь, что начальству стану говорить? Ведь всяк ведает, что мы были у батюшки в команде...
– Так-так-так, – поддакивая Перфильеву, прикрякивает, как утка, Долгополов.
– Ведь я, чуешь, когда был в Петербурге, граф Алексей Григорьич Орлов просил меня поймать Пугачева и живьем доставить в Питер. За сие он пожаловал мне в задаток больше ста рублей и высокий чин пообещал...
– О-о-о! – изумился Долгополов, и прищуренные глазки его как бы покрылись маслом. – Живьем? Пугачева привести? Ишь ты, ишь ты.
– Я тебе допряма говорю, – продолжает Перфильев, – допряма и без утайки. Ежели б ты и надумал фискалить...
– Что ты, Афанасий Петрович! Окстись! Голубчик... Да чтобы я, да на тебя! – замахал Долгополов руками и выдавил на лице гримасу кровной обиды.
– Да знаю, что не станешь... А я тебе, Остафий Трифоныч, как старому человеку, откровенно говорю: я свою душу черту продал, и мне все едино, кто батюшка – природный царь али Пугачев. И даже так тебе скажу, хошь верь, хошь нет: ежели не царь, а Пугачев противу властей народ ведет, так лучше того и требовать не можно. И мне его жаль, Остафий Трифоныч, вот как жаль... Больше, чем себя, жаль его... Чую, словят его рано-поздно, сказнят. И меня сказнят с ним заодно. Я, брат, припаялся к нему, сросся с ним, как сук с родным деревом. Он на плаху, и я туда же. Вместях скорбь несли, вместях ответ держать будем. Пред народом-то мы с батюшкой завсегда оправдаемся, а правительство в жизнь не простит нам... Эх, да тебе ни черта не понять, из другого ты, брат, теста сляпан, уж ты не погневайся на меня, на казака...
– Так-так-так, – прикрякивает купец, как утица. – Зело велики страдания твои! Ох, велики...
– Не в похвальбу себе говорю, а душа того просит, – продолжает Перфильев, безнадежно прощупывая умными, глубоко посаженными глазами сидевшего пред ним малопонятного ему, чужого человека. – Ежели мне до смерти жаль Емельяна Пугачева, то в ту же меру будет жаль и государя, ежели наш батюшка не Пугачев есть, а истинный император Петр Третий...
– Ну-у-у, неужто? – опять изумился Долгополов. – Разжуй, уразуметь на могу.
– Вот то-то и оно-то, – прищелкнув пальцами, сказал Перфильев и выпил с купцом по чарке. – Я ж говорю, что тебе не понять, Остафий Трифоныч. Да навряд и другой кто поймет. Наши атаманы думают: Перфильев злой, свирепый, Перфильев себялюбец. А ведь поверь: ни одна собака из них, окромя разве Чики-дурака, так не любит батюшку, как я люблю. Так вот слушай и, ежели у тебя есть хоть какой умишка, мотай на ус.
– Дай мне, Господи, разуменья умные речи твои, Афанасий Петрович, слышать, – подхалимно перекрестился купец и прикусил губу.
– Смекни! – погрозил Перфильев пальцем. – Если отец наш натуральный государь, так нешто правительство примет его за такового? Да правительство, по наущению Екатерины Алексеевны, монархини, лучше согласится Пугачева польготить, а уж истинному-то Петру Федорычу голову снимет беспременно. Если он натуральный царь, так он враг для них самый опасный, на всю Европу враг. Тут не токмо государыня, не токмо Орловы исконные недруги его, а даже сам Никита Иваныч Панин возопил бы: «Ради спасения России голову с плеч ему долой...»
– Он, батюшка, в таком разе за границу мог бы, там поддержку дали бы ему, – возразил Долгополов.
– Ха! Да как он, явившийся в Европу во образе бродяги, смог бы удостоверить, что есть император Петр? Ну, как? Бродяга и бродяга. Нет, Остафий Трифоныч, тогда-то уж окончательный был бы ему каюк. Стало – так и так пропал. Как ни кинь, все клин.
Припоминая во всех подробностях разговор этот и перебирая в памяти наблюдения в стане Пугачева, Долгополов все больше и больше распалялся потаенной мечтой своей. Если Перфильев не постеснялся нарушить присягу и обмануть графа Алексея Орлова, так почему ж ему, Долгополову, не пойти по той же дорожке и не обмануть князя Григория Орлова, а вместе с ним и самое матушку Екатерину Алексеевну? Нет, Бог с ней, со славой, Долгополов не столь глуп, чтоб гоняться за какой-то там славой, за чинами. И черт с ним, с Емельяном Иванычем, век его не видеть. А что касаемо золота, то Долгополов сумеет его хапнуть не как-нибудь, а на законном основании. Уж на что, на что, а на такое прибыльное дельце смекалки у него хватит.
Только вот беда: передряга с этим разбойником мясником Хряповым изрядно-таки отозвалась на его здоровье – стала сильно подергиваться верхняя губа, а глаза нет-нет да и закатятся сами собой на малое время под лоб. «Ну и настращали меня, окаянные живорезы... Только подумать надо: петля на шее была».
Но черные воспоминания тонули в каком-то розовом тумане, и легкомысленный Долгополов уже начал слагать в уме каверзное письмо князю Григорию Орлову.
А как добрался до приволжского городишки Чебоксар, снял на постоялом дворе отдельную комнатку и, сытно пообедав, сразу засел за письмо. Он стал писать не от себя, а от имени известного братьям Орловым казака Перфильева.
«Ваша светлость, а наш премилосердный государь и отец Григорий Григорьич. Я, нижеподписавшийся, есаул войска Яицкого Афанасий Перфильев, в бытность мою в Санкт-Петербурге был призван к вашему братцу Алексею Григорьевичу, который изволил меня просить, чтоб поймать явившегося злодея и разорителя Пугачева, а наипаче господам благородным дворянам мучителя. А ныне я обще с подателем вашей светлости сего нашего письма казаком яицким же Остафием Трифоновым согласили всех яицких казаков, чтоб его, злодея, самого живого представить в С.-Петербург в скорейшем времени. Он состоит, злодей, в наших руках и под нашим караулом, о чем словесно вашей светлости объявит наш посланный. Только, пожалуй, доложи ее императорскому величеству государыне императрице Екатерине Алексеевне, самодержице всероссийской, чтобы нам, яицким казакам, рыбною ловлею изволили приказать владеть по-прежнему. Еще вашей светлости доношу, что в том числе сто двадцать четыре человека в Петербург не едут. Как мы его, злодея, скуем в колодки и двести человек поедем с ним, а вышеписанных сто двадцать четыре человека домой отпустим, только те требуют на всякого человека по сто рублей, теперь половину, по пятьдесят рублей изволь с посланным нашим прислать золотыми империалами. А мы, двести человек, ничего наперед не требуем: как поставим злодея к вашей светлости, тогда и нам бы такое же награждение, как у нас все обнадежены и все теперь приведены к присяге между собой».
Верхняя губа Остафия Долгополова задергалась, нижняя отвисла, глаза ушли под лоб. Быстро справившись с приступом недуга, купец стал обдумывать, как бы похитрее обмануть князя Григория Орлова, внушить ему полное доверие к письму, к затее, в нем изложенной. Купец скользом взглянул на свежепросольный огурец, на графин водки, стоявший перед ним, и сразу вдохновился.
«А как мы злодея повезем, надлежит давать прогонные деньги, також на харчи и на водку было б довольно. Мы в том не спорим, хотя извольте дать указ, хотя б без прогонов, только б нас везли. Обо всем извольте больше словесно говорить с посланным нашим. Оное письмо писали истинно ночью. (Тут широкая улыбка растеклась по вспотевшему лицу Долгополова.) Пожалуй, батюшка Григорий Григорьевич, нашего посланного отправьте в самой скорости, чтоб он, злодей, не допущен был до разорения наших сел и деревень, також и городов. Иного до вашей светлости писать не имеем, остаются ваш, моего государя, раб и слуга казак Афанасий Петров Перфильев, атаман Андрей Афанасьев Овчинников, сотник Никита Иванов, полковник Шигаев, хорунжий Власов, дежурный Яким Васильев Давилин и всех триста двадцать четыре человека о вышеписанном просим и земно кланяемся».
Ох, если б крылья, если б письмецо доставить в Питер тепленьким, с непросохшими чернилами! Но у Долгополова крыльев нет, он, не жалея денег, заторопился ехать на лошадках.
Восьмого августа, в четыре часа утра, он был уже в Петербурге, возле дворца князя Орлова59, что на берегу Невы, против Петропавловской крепости.
Он попытался нахрапом пройти вовнутрь дворца, но часовой остановил его. Однако Долгополов прикрикнул на солдата, как имущий власть:
– Живо веди во дворец, буди камердинера! Я по неотложному государственному делу.
Видя пред собой человека в годах степенных и одетого в казацкую, хотя и потертую, темно-зеленого сукна, форму, молодой солдат крикнул будочника с алебардой и велел ему провести казака в княжеские покои. Там все еще спали. Долгополов поднял шум, из своей комнатки вышел бравый, высокого роста камердинер в халате с барского плеча и спросил казака:
– Что тебе, служивый, надобно?
– Нагни голову, тогда я тебе скажу на ухо, что мне надо, – проговорил Долгополов. И когда удивленный камердинер нагнулся, Долгополов строго зашептал ему: – А вот что, миленький. Разговор с тобой мне вести недосуг, а ты сей ж минут буди князя. Да вели-ка закладывать карету в Царское, к самой императрице.
Повелительный тон и соответствующие жесты казака сделали свое дело: камердинер поспешно переоделся в кафтан и, пройдя вместе с Долгополовым к опочивальне князя, постучал в дверь.
– Кто? – послышался из спальни громкий голос.
– Я, ваша светлость, Гусаков.
– Войди! Чего ты ни свет ни заря?..
Вместе с камердинером юркнул в дверь и Долгополов. Камердинер отдернул на высоком окне драпри. Князь лежал в кровати, руки за голову, по грудь приукрытый легким одеялом. Долгополову показалось, что он стоит в благолепной церкви – столь много кругом позолоты, лепных порхающих херувимов, шелковых золотистых, как парча, тканей.
– Что ты за человек? – сурово спросил князь Долгополова.
Низко поклонившись князю и касаясь пальцами пола, Долгополов ответил:
– Я, ваша светлость, родом яицкий казак Остафий Трифонов. Вот вам письмо от моих товарищей, извольте, ваша светлость, вставать с постельки. Государственное дельце от вас, самое горяченькое, что изволите усмотреть из сего цидула. Куй железо, пока горячо, как говорится, ваша светлость, – без остановки сыпал Долгополов словами, как горохом.
Орлов, не распрямляя хмурых бровей, быстро спустил с кровати богатырские ноги на ковер, потребовал трубку, закурив, стал внимательно читать. Долгополов, затаившись и крепко зажав в руке казачью мерлушковую шапку-трухменку, неотрывно следил за ним. Протекали самые опасные для прохиндея минуты: или все обернется как не надо лучше, или его схватят и навсегда замуруют в крепостном каземате. Верхняя губа его неудержимо трепетала, глаза то и дело закатывались под лоб. Вдруг он возликовал, заметив, что лицо князя прояснилось, что на его губах заиграла самодовольная улыбка. Орлов бросил письмо на круглый, изукрашенный перламутром столик, взволнованно сказал:
– Сия овчинка, сдается мне, стоит выделки... Одеваться – и тотчас карету!
Вбежал негритенок в красном жупане, принялся одевать князя, а Долгополов с камердинером удалились.