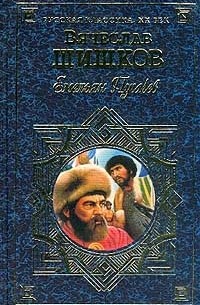Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
3
Проживающий в Пензе секунд-майор Герасимов вместе с офицерами-инвалидами направился в провинциальную канцелярию и спросил воеводу Всеволожского, где находится самозванец и какие меры приняты властями для защиты города. Воевода ответил:
– По разорении Казани злодей действительно следует к Пензе. Соберите свою инвалидную команду и приготовьтесь к отпору.
Герасимов собрал всего лишь двенадцать человек, среди коих были безрукие, безногие, и приказал им вооружиться. В городе оказалось больше 200 000 рублей денег. Их начали прятать по подвалам, зарывать в землю. Но всех медных денег схоронить не успели, они впоследствии достались Пугачеву.
Начальство, во главе с воеводой, в ночь бежало. Наступило безначалие. Остался лишь один Герасимов. На базарной площади в последних числах июля собралось до двухсот пехотных солдат, живущих в городе.
– Что вы здесь делаете? – осведомился у них проходивший рынком Герасимов.
– А мы судим да рядим, как быть, – отвечали пехотные солдаты. – Все начальники убежали, некому ни делами править, ни город оборонять. Вы, господин секунд-майор, самый большой чин здесь. Просим вас принять команду и город защищать.
Оставшийся в городе бургомистр купец Елизаров собрал всех людей торговых в ратушу и спросил их:
– Надо защищать город или не надо?
Купцы долго молчали, переглядывались, разводили руками. По выражению их лиц, озабоченных и смятенных, видно было: купцы что-то хотят сказать, но не решаются. Тогда заговорил седобородый, почтенный, с двумя медалями, бургомистр Елизаров:
– Вот что, купечество, ежели без обиняков говорить, начистоту, то прямо скажу – противиться нам нечем: ни оружия, ни народа у нас, ни чим-чего... Так уж не лучше ли встретить самозванца честь по чести? Авось город спасем тогда от пожога, а жителей от смерти лютыя.
Купцы сразу оживились, дружный крик в зале зазвучал:
– Правда, правдочка, Борис Ермолаич! Где тут ему противиться? Эвот он какой: крепости берет, Казань выжег! А нас-то он одним пальцем повалит. А давайте-ка, люди торговые, ежели мы не дураки, встречать батюшку хлебом-солью.
В это время влетел в зал напорный шум толпы, собравшейся возле ратуши. Среди народа – почти все двести человек пехотных солдат. Бургомистр Елизаров вышел на балкон и объявил толпе, что купечество решило самозванцу не противиться.
И удивительное дело: народная толпа, паче всякого чаяния, купеческим решением осталась недовольна.
– Вам, толстосумам, хорошо так толковать! – кричали из толпы. – Вы тряхнете мошной, откупитесь... А нас-то вольница за шиворот сграбастает да к ногтю...
И вся толпа, брюзжа и ругаясь, повалила к провинциальной канцелярии, где совещались майор Герасимов, три офицера и несколько пензенских помещиков.
Толпа крикливо требовала вооружить ее. Вышедший наружу офицер Герасимов сообщил народу, что за отсутствием казенного оружия пусть жители сами вооружаются, чем могут.
В три часа дня (1 августа) нежданно-непрошенно явились на базар человек пятнадцать конных пугачевцев. Затрубили призывные дудки, забил барабан. К всадникам со всех сторон устремился народ. Есаул Яков Сбитень выдвинулся на коне вперед и, как сбежались люди, достал из-под шапки бумагу.
– Жители города Пензы! – воззвал он, прощупывая толпу строгим взором бровастых глаз. – Прислушайтесь к манифесту отца нашего государя.
Народ обнажил головы. Есаул раздельно и зычно стал читать:
– «Божиею милостью мы, Петр Третий, император и самодержец всероссийский и проч. и проч. ...
Объявляется во всенародное известие.
По случаю бытности с победоносной нашей армией во всех, сначала Оренбургской и Симбирской линии, местные жительствующие разного звания и чина люди, которые, чувствуя долг своей присяги, желая общего спокойствия и признавая как есть за великого своего государя и верноподданными обязуясь быть рабами, сретение имели принадлежащим образом. Прочие же, особливо дворяне, не желая от своих чинов, рангу и дворянства отстать, употребляя свои злодейства, да и крестьян своих возмущая к сопротивлению нашей короне, не повинуются. За что грады и жительства их выжжены, а с оными противниками учинено по всей строгости нашего монаршего правосудия».
Настроение толпы было выжидательное, неопределенное, да и манифест показался народу не особенно понятным. Подметив это, есаул обратился к жителям попросту, как умел:
– Верьте, миряне, что к городу подходит не самозванец, как власти внушают вам, а сам истинный природный государь! Он послал нас объявить, что ежели горожане не встретят его хлебом-солью, а окажут противность, то все в городе до сущего младенца будут истреблены и город выжжен.
После этого, пригрозив нагайкой, всадники повернули коней и галопом поехали из города.
Озадаченная толпа молча смотрела вслед всадникам. Затем, как по сговору, снова повалили всем скопом к провинциальной канцелярии, куда, по набату соборной колокольни, сбежался почти весь город. Вышедшему из канцелярии на площадь секунд-майору Герасимову народ кричал:
– Защищаться нам нечем! Погибли мы... Веди нас государя встречать хлебом-солью.
Герасимов повиновался.
Вскоре вся толпа, в сопровождении духовенства и купечества, вышла из города и в версте на возвышенном месте остановилась.
День был золотой, солнечный, и кругом было рассыпано золото: блистали богатые ризы духовенства, отливали блестками иконы, кресты, хоругви с мишурными кистями, золотились поспевшие нивы, часть хлеба уже была сжата. Но жнецов в поле не было, золотистые нивы – сплошная пустыня. Дозревали высокие льны. Пред глазами широкая лежала даль, подернутая таинственной сизой пеленой, за которой чудилось жителям шествие грозного царя. Что-то будет, что-то будет, Господи?..
Народ разбился на кучки, уселись на земле, а некоторые и прилегли – снопы в головы. Духовные лица, сняв парчовое облачение, вместе с офицерами Герасимовым, Никитиным и Чернцовым, расположились вдоль канавы, поросшей розоватой кашкой и пыреем. Священник вынул из корзины, поданной босоногим поповичем, сдобные ватрушки, с проворством стал жевать. Дьякон разломил овсяный пирог с морковной начинкой. Офицеры задымили трубками. Всюду разговоры, разговоры. Огромный жужжащий табор.
А золотое, все в пожаре солнце сияет с высоты, и нежно голубеет спокойное небо. Легкие, как бы невесомые, жаворонки утвердились в воздушном океане, словно на ветвях невидимого дерева, и, перекликаясь друг с другом переливчатыми трелями, с зари до зари воздавали хвалу животворящему духу. Ветра нет. Стоявшие по пригоркам мельницы сгорбились, замерли. Они, как и люди, поджидают ветра с восточной стороны. С восточной стороны на присмиревшую толпу надвигается ветер ли, буря ли, а может, шествует в кротости, в благостном своем милосердии мужицкий царь.
Золотистая пыль показалась вдалеке. Ближе, ближе – и вся дорога запылила, версты на три. Глаз стал различать ехавший впереди отряд всадников.
Духовенство принялось облачаться, офицеры – одергивать мундиры, подтягивать шелковые с кистями кушаки, купцы – расчесывать гребнями бороды и волосы, толпа – размещаться по обе стороны дороги, выдвигать наперед почтенных стариков.
Пугачев к молчавшей толпе подъехал со свитой. Рядом с ним начальник артиллерии Федор Чумаков и адъютант Давилин.
По обычаю, приложившись ко кресту, Пугачев устроил целование руки. С духовенством, купечеством и офицерами он милостиво шутил, а с простыми людьми вел беседу:
– Вот и царя узрели, детушки... Дарую вам жизнь безбедную. В моем царстве-государстве, ежели всемогущий Господь сподобит воссесть мне на престол, тиранства вам от бар не будет. Я слезы ваши вытру, только послужите мне.
– Послужим, отец наш! Будь в надеже! – радостно откликнулся народ.
– А где же воевода ваш и достальное начальство? – спросил Пугачев.
– А воевода Всеволожский сбежал, твое величество.
Пугачев переглянулся с Чумаковым, насупил брови.
Он согласился отобедать в самом лучшем по городу доме купца Андрея Яковлевича Кознова. Для пущего парада Емельян Иваныч приказал ратману купцу Мамину ехать впереди верхом. Толстобрюхий купец едва взгромоздился на коня, он сроду так не езживал: сидел в седле потешно; рыжая, как пламень, борода его дрожала, левая штанина вылезла из сапога, шляпа сползла на затылок, купец в страхе бормотал:
– Ой, упаду, ой, светы мои, брякнусь! – Красное лицо его покрылось испариной.
Глядя на него, Пугачев улыбался. А осмелевший народ, поспевая вприпрыжку за процессией, смеясь, кричал:
– Падай, падай скорее, Иван Павлыч, покедова мягко!..
Однако купец при въезде в город успел-таки оправиться: распустив по груди пламенную бородищу и помахивая нагайкой, он уже покрикивал:
– Шапки долой перед государем! Шапки долой!
Но и так все были без шапок. «А бургомистр, купец Елизаров, ускоря прежде всех, – как впоследствии отметил местный летописец, – дожидался у ворот встретить злодея».
Пугачев пригласил за стол из своих ближних только двенадцать человек. Пищу разносили не слуги, а сами купцы с шутками и прибаутками. Бургомистр, судьи, офицеры угощали гостей. Пили за здоровье Петра Третьего, государыни Устиньи Петровны и наследника-цесаревича. Пугачев был доволен. Он снял кафтан со звездою и остался в одной шелковой рубахе. Он заметно похудел, за собой не следил, щеки не подбривал, на висках белела седина. После сытного обеда его вдруг потянуло на пищу острую. Он велел покрошить в блюдо чесноку и луку да хорошенько потолочь, подлить конопляного масла и покрепче посолить. Ел, облизываясь и от удовольствия покрякивая. Блаженно жмурился, говорил:
– Это кушанье турецкое. К нему приобвык я, как жил в укрытии у дружка моего – турецкого султана. Ась? Ну, вот, господа купцы, теперь вы, да и все городские жители моими казаками называетесь. Ни подушных денег, ни рекрут с вас брать не стану. А соль я приказал раздать безденежно по три фунта на человека. А впредь торгуй солью кто хошь, запрету от моего царского имени не будет, и промышляй всякий про себя.
В это время в городе и на базаре было шумно, разгульно, весело. Пугачевцы выпустили из тюрьмы всех колодников, растворили питейные дома, трактиры, соляные амбары, разрешив народу пить вино и брать соль безденежно. Однако они выставили от себя надсмотрщиков, чтоб соль бралась по справедливости и вином чтоб не упивались до потери сознания.
Тем не менее многие перепились. Бродили по улицам, орали песни, ругались. Чахоточный высокий сапожник в кожаном фартуке, с ремешком на голове, совался носом по дороге, потрясал кулаком, хохотал и пьяно выкрикивал:
– Эй, народы! Дома кашу не вари, все по городу ходи! Ха-ха-ха... Грабь богатеев!
Кое-где действительно уже начинались драки, грабежи. Купеческие дома и ворота на запоре. Грабители перелезали заплоты, вваливались во дворы, вступали в бой с цепными, спущенными на волю собаками, приказчиками, купеческими сыновьями. Были увечья, кровь. На соборной площади толпа разбивала торговый, с красным товаром, лабаз. Пугачевцы отогнали толпу нагайками. В одном месте священник кладбищенской церкви вышел с крестом в руках увещевать буянов, но толпа надавала ему по шее, поп едва убежал.
По улице пугачевцы волокли вешать усача-целовальника, однако толпа вступилась за него:
– Кормильцы, радетели! Не трог Моисея Лукича... Он человек бесхитростный, добрецкий. В долг бедноте дает...
Целовальника отпустили. От неожиданной помощи у него градом полились слезы. Толпа вдруг посунулась к проезжавшей тройке:
– Стой!
В тарантасе сидели, связанные, бледные, трое: пожилой мужчина со злыми глазами, женщина, должно быть, жена его, и сын, паренек лет тринадцати. Рядом с ямщиком и в тарантасе – четверо дюжих крестьян с топорами. Они соскочили на дорогу, зашумели:
– Получайте! Их, гадов, бар-то этих, человек двадцать ночью сбежало из города-то... А пымали одного. Это помещики Арбузиковы, самые лиходеи! Сам-то из полицейских крючков выслужился, нахапал взяткой, хабару с живого-мертвого драл...
– Вешать!.. – заорала толпа. – Веди к воротам...
– Братцы! Огонька бы по городу пустить!.. – кто-то выкрикнул.
Но крикуна-поджигателя живо нашли и пригрозили ему петлей.
Прислушиваясь к доносившемуся буйному шуму, Пугачев сказал:
– Полковник Чумаков! Пойди уйми народ...
– Да уж таперичь не унять, батюшка твое величество, – ответил Чумаков. – Пущай погуляют...
– Ну, ин ладно... Только чтоб купцов моих не забижали. А пикеты расставлены?
– Расставлены, батюшка, – почтительно сказал Чумаков. – Чичас оттудов сержант Мишкин да два есаула... Доклад чинили мне. Наши в городе пушки да порох с ядрами забирают да медные деньги на возы грузят...
– Добро, – сказал Пугачев и вдруг, обратясь к сидевшим против него офицерам, поразил их такими словами: – А ведомо ли вам, господа офицеры, что вожу я с собой в походах знамя голштинское? Ась? Ведь у меня было в Ранбове, где я пребывание имел, трехтысячное войско голштинцев, и пешие и конные полки. Ну, так у них свои были знамена. – Обо всем этом Пугачеву удалось своевременно выведать у полковника Падурова и передавшегося ему под Оренбургом офицера Горбатова. Поэтому рассказ он вел уверенно. – А как жена моя, прелюбодейная Катерина, сговорившись с великими вельможами да с жеребцами Орловыми, лишила меня престола, все оные знамена были Сенатом схоронены в кованый сундук до моего возвращения на престол. А сын мой, наследник Павел Петрович, как пришел в возраст, так отца-то своего пожалел. Пожалел, детушки, дай Бог ему здоровья! – Пугачев перекрестился. – И с доверенным человеком прислал мне тайно одно знамя при грамоте, писанной золотыми литерами. Давилин! Покажи господам офицерам знамя мое.
Дежурный Давилин принес из угла комнаты древко со свернутым знаменем, снял кожаный чехол и распустил голубое полотнище с вышитым серебряным вензелем «П III» и крупным черноперым орлом.
Пугачев поднялся, и все три офицера, обуреваемые крайним любопытством, вскочили.
Секунд-майор Герасимов сначала побледнел как полотно, затем вдруг налился кровью, и в глазах его потемнело. Он подумал, что теряет рассудок. Пред ним было доподлинное императорское знамя, принадлежавшее голштинскому в Ораниенбауме воинскому отряду.
– Ну, господин майор, что скажешь?
– Ваше величество, – весь внутренне содрогаясь, ответил Герасимов, – когда я кончил шляхетский в Петербурге корпус, мне посчастливилось быть в Ораниенбауме... А вы в то время...
– Стой, майор Герасимов! Будь моим полковником...
– Низко кланяюсь вашему величеству... Не заслужил... Благодарю... государь, – заволновался, нервно замигал полнощекий, в годах, Герасимов.
Емельян Иваныч постучал костяшками согнутых пальцев в стол и крикнул:
– Гей, атаманы! Да и вы, люди торговые! Прислушайтесь, что полковник Герасимов толкует.
Шум и разговоры тотчас смолкли. Взоры всех направились в сторону государя. Он сел, откинул свисшие на глаза волосы, огладил бороду, кивнул офицеру. Тот, сметив, что от него требуется, громко повторил сказанное и продолжал:
– В то время, помню, вы изволили чинить смотр своим голштинским войскам. Вы тогда были молодой, без бороды. А общие черты вашего лица сохранились теми же и поныне...
– Ась? Сохранилось лицо-то мое? – радостно подбоченился Пугачев и, приосанившись, поглядывал орлом то на Герасимова, то на атаманов с купечеством. – Слышали, господа казаки? Говори, полковник.
– И вот как сейчас вижу пред своими глазами это голубое знамя... как сейчас... Без всякого сумления, это оно и есть...
– Как есть оно! А я, стало быть, не кто иной, как природный император Петр Федорыч Третий... Пускай-ка Михельсон с Муфелем понюхают знамя-то, чем пахнет, да носами покрутят... Ах, злодеи, ах, изменник! Ну, погоди ж!
Пугачев уехал из Пензы под вечер, забрав с собою 6 пушек, 590 ядер, 54 пуда свинца, 16 пудов пороху, много ружей и сабель. А медных денег было взято 13 233 рубля 63 3/4 копейки, ими нагрузили 40 подвод. Пугачев распорядился три бочонка с деньгами подарить протопопу, два бочонка – штатным солдатам, шесть бочонков – инвалидной команде, а часть денег была разбросана народу. Емельян Иваныч направился к городу Петровску, в сторону Саратова, и, отъехав от Пензы всего верст семь, остановился лагерем.
На другой день с утра по улицам города было расклеено объявление:
«Сего августа 3 числа, по именному его императорского величества указу, г. секунд-майор Гаврило Герасимов награжден рангом полковника и поручено ему содержать город Пензу под своим ведением и почитаться главным командиром. Да для наилучшего исправления и порядка определен быть в товарищах купец Андрей Яковлевич Кознов. И во исполнение оного высочайшего указа велено об оном в городе Пензе опубликовать, чего ради сим и публикуется.
В тот же день было вывешено и другое объявление, от нового воеводы – полковника Герасимова:
«По именному его величества высочайшему изустному повелению приказано г. Пензе со всех обывателей собрать чрез час в армию его величества казаков 500 человек, сколь есть конных, а достальных пеших, которые обнадежены высочайшею его императорского величества милостью, что они как лошадьми, так и прочею принадлежностью снабдены будут. А если вскорости собраны не будут, то поступлено будет по всей строгости его величества гнева сожжением всего города».
Далее следовало перечисление, с каких сословий сколько людей брать.
Вскоре было набрано 200 человек и при прапорщике отправлено к Пугачеву. Тот остался недоволен столь малым числом набранных, потребовал к себе на ответ Герасимова, а сам двинулся с армией дальше. Герасимов, искренне принимавший самозванца за царя, тотчас поскакал в его стан и нагнал его уже в сорока верстах от Пензы.
– Что же ты, полковник, не исполняешь моего приказу? Ась?
Герасимов, выразив верноподданническое чувство, сумел оправдаться и был отпущен в Пензу.
Пугачев двигался быстро. Он опасался встречи с правительственными отрядами и спешил загодя уйти от них. Отряды же Муфеля и Меллина, в свою очередь, боялись встречи с главной пугачевской армией. Они с успехом разбивали мелкие повстанческие партии, состоящие из крестьян, барской дворни, однодворцев и поповских сыновей, грозного же Емельяна Пугачева страшились как огня. Так, граф Меллин, имея тысячу человек отлично вооруженной пехоты и двести улан-кавалеристов, остановился в экономическом селе Городище, в сорока верстах от Пензы, которая в это время занята была Пугачевым, и стал выжидать здесь, когда Пугачев Пензу покинет62. А ведь Меллину было предписано идти по следам «злодейской толпы» и, как только она будет обнаружена, немедля вступать с ней в бой. Но он, очевидно, переоценивая силы Пугачева и желая сохранить жизнь свою, на это не отважился. Прожив в полном бездействии трое суток, он послал туда двух ямщиков села Городища – братьев Григорьевых, а вдогонку им сельского старосту с наказом разузнать и донести ему о выходе Пугачева из Пензы. И Меллин только тогда насмелился выступить походом к Пензе, когда ему все три посланца, вернувшись, сообщили, что «злодейская толпа еще вчерась побежала по саратовской дороге». Подобные очень важные и весьма курьезные обстоятельства были на руку Пугачеву: они укрепляли в населении веру в несокрушимую силу «батюшки-заступничка» и в то, что он действительно природный царь есть.
– Видали, братцы, – озадаченно говорили мужики. – Генералы-т побаиваются... Чуют, что не кто иной, а сам ампиратор Петр Федорыч шествует. Уж они-то, генералы-т, зна-а-ют, их на мякине-т не обманешь.
– Гей, братцы. Живчиком собирайся к батюшке...
Вслед за Меллиным 5 августа вступил в Пензу и Муфель.
Ставленники Пугачева – Герасимов и купец Кознов были арестованы, отправлены в казанскую Секретную комиссию. Многие горожане, примеченные в беспорядках, были на площади под виселицей наказаны кнутом, четверо закачались в петлях. Здесь же были сечены плетьми и купцы-хлебосолы.
Граф Меллин, делая форсированные марши по сорок, по шестьдесят верст в сутки, выступил далее. А оставшийся в Пензе Муфель оказался среди большого разрушения и почти поголовного мятежа в окрестных помещичьих селениях.
Проходя со своей армией, Пугачев видел, как днем и ночью горят повсеместно барские гнезда. И со всех сторон толпами валят к царю-батюшке мужики.
Но, несмотря на это, ядро пугачевских сил не возрастало, а постепенно таяло.
Огромной толпе, не в одну тысячу человек, с большим обозом идти по одной дороге не было возможности: не хватало ни кормов для людей, ни фуража для коней. Поэтому волей-неволей от главной армии отделялись порядочные толпы воинственно настроенных крестьян.
Не спросясь Пугачева, они самочинно выбирали себе полковников и растекались во все стороны по уездам.
Так, отрываясь от главного пожарища, всюду разлетаются гонимые ветром огненные головешки, они падают то здесь, то там, и вот воспламеняются новые пожары, вступают в жизнь новые проявления мстящей вольности народной.
Эти мстительные толпы, передвигаясь с места на место, быстро обрастали почуявшими волю крепостными крестьянами, пахотными солдатами, а зачастую и обнищавшими дворянами-однодворцами.
Так, крепостной крестьянин графини Голицыной, Федот Иванов, успел собрать толпу до 3000 человек и носился с нею вихрем по всему уезду.
Предводители этих отдельных от Пугачева толп возили с собой указы «мужицкого царя», хватали помещиков, направляли их к Пугачеву или убивали на месте. Находившиеся в таких ватагах пугачевские казаки были много милосерднее крестьян. Казаки иногда пробовали держаться в каких-то, впрочем, довольно призрачных, рамках законности, требовали хоть какого-нибудь расследования обстоятельств дела – может статься, помещики не были для своих крестьян жестокими тиранами. Однако крестьяне в один голос вопили:
– Вешать! Он нынче хорош, а завтра хуже дьявола. Батюшка всех бар вешать повелел, под метелку! Бар не будет, земля вся мужику перейдет. Вешать!
Вешали помещиков, приказчиков, старост.
Богатые помещики сравнительно страдали мало – они своевременно успевали скрыться. А баре вельможные, вроде княгини Голицыной или графа Шереметева, и вовсе не платились жизнью, они прозябали либо в столицах, либо за границей. Они отделывались только материальными убытками: их поместья сжигались, богатства расхищались.
Как это ни странно, немало было истреблено помещиков средней руки и даже мелкота. Впрочем, многие из них, именно владельцы среднего достатка, в своей погоне за наживой, за тем, чтоб не отстать в роскошествах от помещиков крупных, выжимали из своих крестьян путем насилия все, что можно, и этим страшно озлобляли против себя подъяремных крепостных. Народная месть обрушивалась, помимо помещиков, также на управителей имениями, на приказчиков, бурмистров. Эти наемники, стараясь оправдать доверие своих господ, да и себе нажить копейку, были по отношению к крестьянам более жестоки, чем сами баре.
Сбежавшие из Пензы пред вступлением Пугачева в этот город воевода Всеволожский, его товарищ Гуляев и два офицера были захвачены толпой Иванова в имении помещика Кандалаева. Их отправили к Пугачеву на суд, но по дороге в деревне Скачки конвоиры заперли арестованных в амбар и там сожгли. А два пензенских секретаря, Дудкин и Григорьев, тоже сбежавшие от Пугачева, были повешены толпою Иванова в селе Головщине.
Спасаясь от Пугачева, все они угодили в плен к разъяренным толпам. И как знать! Сдайся они на милость мужицкого царя, может быть, все остались бы целы-невредимы. И таких случаев народной мести было немало. За короткое время в одном только Пензенском уезде так или иначе пострадало до 150 помещичьих семейств, или до 600 человек.
Однако Емельян Иваныч Пугачев вряд ли целиком виноват в тех подчас излишних жестокостях, которые творились его именем, но без малейшего его участия.
Если внимательно всмотреться в грозные события, быстро развернувшиеся на правом берегу Волги, то можно с ясностью видеть, что пугачевское движение теперь утратило почти всякое организационное начало и вылилось в форму движения стихийного.
Да оно и понятно. Лежавшие к западу от правого берега Волги великорусские губернии, по которым спешным маршем проходил Пугачев, это не то, что мятежная столица Берда, где мужицкий царь полгода сидел со своим штабом, где была и действовала знаменитая Военная коллегия. Это мудрое государственное учреждение, возникшее волей Пугачева, сразу положило предел стихийности, сразу ввело сложнейшее народное движение в рамки организованности и какого-то порядка. В Военную коллегию являлись за приказами пугачевские полковники и атаманы, они без ее повелений не смели пикнуть. Военная коллегия вела весь распорядок в армии, коллегия руководила всем народным движением, и почти ни один сколько-нибудь заметный народный мятеж не ускользал от ее внимания.
Потерпевший поражение на Урале и разбитый под Казанью, Пугачев бежал на правый берег Волги с малой толпой, всего в полтыщи человек. Теперь, преследуемый по пятам правительственными воинскими частями, он уже не мог задерживаться на одном месте более двух-трех дней. И не было времени ему одуматься, чтоб снова собрать вокруг своего знамени грозную силу и обучить ее для окончательной схватки с докучливым врагом.
И все пошло самотеком. В руках Пугачева ныне осталась не власть, а как бы призрак власти. Пугачев сугубо страдал. Зачинался массовый стихийный мятеж крестьянской Руси, зачиналось пугачевское движение без Пугачева, вне его направляющей воли.
Как уже мы видели, от центральных пугачевских сил отделялись толпы и, без ведома своего царя, устремлялись на самостийную работу.
Зачастую подобные толпы возникали сами собой в разных местах. Участники их в глаза не видали Пугачева, – что им мужицкий царь – они сами Петры Федоровичи! И набеглых Петров Третьих – разных Ивановых, питерских мясников Хряповых, канцеляристов Сидоровых, поповичей Преклонских – можно было насчитать по России немалое количество. Все они Петры Третьи или его полковники. Но сам Пугачев не имел о них ни малейшего понятия, они тоже знали его только понаслышке.
А в Новороссийской губернии даже объявился император Иван Антонович63, шлиссельбургский узник, с младенческих лет заключенный в Шлиссельбургскую крепость и там давным-давно убитый. Этот самозванец разъезжал в богатом экипаже и всех приходящих к нему щедро награждал деньгами. «Меня хотели убить, Екатерина выпустила манифест о моей ложной смерти, – взывал он к народу, – но всемогущий Бог спас меня. Я ваш император Иоанн». Темные попы валились пред ним на колени, служили о его здравии молебны.
В маленький городишко Инсар, в захолустную глухомань, приехали два верховых, хорошо вооруженных крестьянина. Оба – грозные обличьем, заросшие густыми бородами.
Один из них, Петр Евстафьев, одетый в лакейскую ливрею с позументами, бросил с коня в толпу на людном базаре:
– Я – царь ваш, миряне, Петр Федорыч Третий! Великое воинство идет за мной.
Легковерный народ только того и ждал. В народе только и разговору было, что о царе-батюшке, потерпевшем от генералов поражение и неведомо куда скрывшемся.
– Ой, батюшка! Ой, свет ты наш! – завопили окружившие всадников крестьяне.
Как водится, ударили в набат. Горожане, окрестные жители и помещичья дворня стали сбегаться на базар, воевода и все начальство страха ради скрылись. Сразу скопилась шайка вольницы, город подвергли разграблению, побито было до восьмидесяти человек народу, преимущественно чинов инвалидной команды, оказавших насильникам сопротивление.
Из Инсара «Петр Третий» (он же Евстафьев) увел толпу в Троицк, жители которого сразу покорились самозванцу, приволокли к нему на расправу всех своих немилых начальников. Воевода Столповский, его товарищ князь Чегодаев и управитель дворцовых имений Половинкин были толпой убиты, имущество их расхищено. Далее толпа на телегах, верхами или пешком, с дубинками, косами, топорами повалила за своим «Петром Третьим» в Краснослободск, затем в Темников и, разбив эти города, стала приближаться к Ардатову. Около Керенска он был разбит.
Действовал также со своей толпой литейный мастер Инсарского железного завода Савелий Мартынов. В его команде были заводские рабочие, русские и мордовские крестьяне. Ими были разгромлены помещичьи и казенные заводы Сивинский, Рябукинский, Виндреевский и Троицкий винокуренный. Толпа мастера Мартынова выросла до 2000 человек, но в конце концов была разбита.
Работала также команда из двенадцати человек какого-то вахмистра, говорившего по-польски; он объявил себя посланцем государя Петра III. К нему присоединились многие однодворцы, пахотные солдаты и крестьяне. Они разбили город Керенск и Богородицкий монастырь. Когда служили в монастыре молебен с провозглашением многолетия Петру III, подгулявшие бунтовщики, стоя в церкви, стреляли из ружей. Монахи со страху попадали на пол.
Начал организовываться отряд повстанцев и среди рабочих тульских оружейных заводов. Возникали «колебания» и «замешательства» и в других местах Тульской провинции. Но мерами правительства движение это вскоре прекратилось. «О тульских обращениях» Екатерина писала в Москву князю Волконскому: «Слух есть, будто там, между ружейными мастеровыми, неспокойно. Я ныне там заказала 90 000 ружей для арсенала; вот им работа года на четыре, – шуметь не станут».
Было много и других мятежных отрядов, но все они действовали, так сказать, очертя голову, без дисциплины, без должного порядка, да и возглавлялись людьми неподходящими.
Более организованно и уже в крупном масштабе действовала трехтысячная толпа предприимчивого, смекалистого Иванова, самовольно назвавшегося «полковником государя императора». От его огромной толпы, в свою очередь, отделялись небольшие отряды и, опять-таки без ведома Иванова, устремлялись на добычу.
Прибывший в Пензу подполковник Муфель ясно видел, что оставлять уезд в таком положении невозможно и что надо в первую голову, разыскав главные силы Иванова, покончить с ним. Оказалось, что руководимая Ивановым толпа движется к Пензе. Навстречу мятежникам Муфель выслал двести человек улан дворянского пензенского корпуса под начальством предводителя дворянства Чемесова.
В тридцати верстах от Пензы, возле села Загошина, загорелся бой. Несмотря на дружный и меткий огонь улан, толпа держалась крепко. Тогда Чемесов с одетыми в голубые мундиры уланами врубился в самую середину толпы. Народ побежал, оставив до трехсот человек убитыми, сто семьдесят крестьян попало в плен, были захвачены несколько чугунных пушек и две медные мортиры.
Вскоре после этого дворянство и купечество, скрывавшееся в лесах без пропитания, стало стекаться в Пензу под защиту правительственных войск.
Однако не всем скрывавшимся дворянам удалось отделаться так благополучно. Многие из них были изловлены крестьянами, связаны, посажены в телеги и отвезены в Пензу, на суд царя-батюшки. Но Пугачева там крестьяне уже не застали и, раздосадованные, повезли дворян обратно, вслед за государем.
– Куда везете этих гадов? – остановили подводчиков случайно встретившиеся пугачевцы. – Везите их в Пензу, там воеводой поставлен полковник Герасимов. Он их всех подымет кверху. А нет, сами расправьтесь.
– Пятые сутки треплемся, – жаловались крестьяне. – Лошадей-то притомили. Эй, Макар! – кричали они переднему вознице. – Поворачивай нито в лесок. И впрямь кончать надо с гадами.
Один из находившихся в этой группе обреченных – помещик Яков Линев впоследствии писал в Москву своему приятелю: «Остановясь в лесу, велели всем выходить из повозок и вынимали рогатины, чтобы переколоть нас. Но в самый тот час прибывший конвой чугуевских казаков спас нам жизнь, и всех мужиков переловили. Из коих злодеев шестеро – застрелены, четыре повешены, прочие, человек двадцать, кнутом пересечены. Посмотрели бы вы на верного друга вашего пред казнью, то и увидели бы меня в одном армячке, сюртуке без камзола, стареньких шелковых чулках без сапог, скованного и брошенного в кибитку».