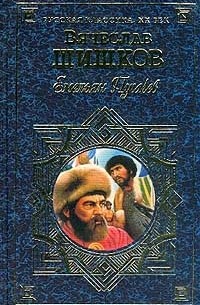Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
2
При свидании Кар сообщил Бранту о неудачных стычках с пугачевцами, о причинах этих неудач, затем стал жаловаться на свою застарелую болезнь: во всех костях снова появился нестерпимый «лом», а в теле лихорадка и трясение. И когда он, Кар, стал терять последние силы, то решил спасать как свою жизнь, так и безнадежное положение на фронте.
Губернатор Брант, раздраженный речами неудачника, с болью в сердце рассматривал вспухшие склеротические вены на своих старческих руках (следствие понесенных им за последнее время забот и неприятностей) и, укоризненно поглядывая на взволнованного Кара, то и дело повторял:
– А мы-то надеялись... А мы-то уповали на вас. И вот что вышло... Конфуз, неизгладимый конфуз!
– Но вы понимаете, дражайший Яков Илларионович, – оправдывал себя Кар, – без больших кавалерийских сил и без хороших пушек там и делать нечего: враг искусен, силен и весь на конях. Я-то боевой генерал, я-то смотрю на вещи трезво. А Захар Григорьевич Чернышев...
– Граф Чернышев тоже самый боевой генерал, – возразил мягкий по своей натуре старый Брант и, притворяясь строгим, сердито пожевал губами. – Первостепенный генерал. Герой!
– Да, да... Но Чернышев, да и все там в Питере самого превратного мнения о мятеже. Вот я и собрался в Петербург, я все приведу в ясность. И ежели моим словам не будет оказано достодолжного доверия, ласкаю себя смелостью дерзнуть обратиться к самой императрице. Надо спасать Россию, Яков Илларионович!
– Надо спасать Россию, надо спасать дворян! – подхватил Брант и, нащупав пульс, стал незаметно считать удары сердца. – Вся моя губерния встревожена, – продолжал он чуть погодя, – я уже не говорю об Оренбургском крае – помещики бросают свои поместья и бегут кто куда, крестьяне, оставшись без надежного обуздания, бесчинствуют, жгут поместья, режут скот, что творится... Бог мой! Но у меня нет воинских команд, чтоб приводить чернь к повиновению, чтоб карать мятежников, чтоб охранять священную собственность дворянства... И вы верно изволили молвить: Россию спасать надо!
– Надо, надо, Яков Илларионович!.. И аттестуйте мне какого-либо искусного лекаря.
Пульс у Бранта сто пять в минуту. Брант сразу упал духом, извинился, разболтал в рюмке воды успокоительные капли, выпил и сказал, обращаясь к Кару:
– Навряд ли вы найдете в Казани доброго эскулапа... Плохие здесь лекаря. Вот и я – пью, пью всякую аптеку, а облегченья нет.
Пробыв в Казани двое суток, болящий Кар двинулся в Москву, предварительно послав графу Чернышеву частное письмо, в котором между прочим сообщал: «Несчастие мое со всех сторон меня преследует, и вместо того, что я намерен был для переговору с вашим сиятельством осмелиться выехать в С.-Петербург, подхватил меня во всех костях нестерпимый лом, и, будучи в чрезвычайной слабости, принужден был поручить корпус генералу Фрейману, отъехать на излечение в Казань, где по осмотре лекарском открылась, к несчастью моему, еще фистула, которую без операции никак излечить не можно. По неимению же здесь нужных лекарств и искусных медиков решился для произведения сей операции ехать в Москву, уповая на милость вашего сиятельства...»
Еще в начале ноября Екатерина повелела архиепископу казанскому Вениамину составить увещание к верующим по поводу «богомерзкой смуты». Вениамин поручил это сделать архимандриту Спасского монастыря Платону Любарскому. Увещание было своевременно оглашено по всей Казанской епархии. После же отъезда Кара в Москву, когда по Казани стали ходить неблаговидные по отношению правительства пересуды, Вениамин приказал снова огласить пастве свое послание.
«Твердитесь разумом, – писал он, – бодрствуйте в вере, стойте непоколебимо в присяге, яко и смертию запечатлети вам любовь и покорение к высочайшей власти».
Он между прочим в своем посланьи говорил, что Петр Третий, чьим именем назвал себя Пугачев, действительно умер и погребен в Александро-Невском монастыре, что тело его стояло в тех самых покоях, где жил Вениамин, и что на его глазах приходили вельможи и простолюдины, дабы поклониться праху почившего. Вениамин свидетельствует, что тело Петра Третьего перенесено при стечении народа из его архиерейских покоев в церковь, там отпето и самим Вениамином «запечатлено земною перстью», то есть предано земле.
Но простой народ уже не верил ни царицыным манифестам, ни непреложному свидетельству своего архипастыря, народ брал под подозрение все слова, все действия правительства и церкви. Униженные люди, раз почувствовав в себе некую, хотя бы призрачную, душевную дерзость и свободу, слепо верили только манифестам живого царя-батюшки, невесть как залетавшим в их родную Казань.
Дорога была гладко укатана, под полозьями скрипело. Кар с адъютантом и лекарем ехали в Москву на четверне.
В тридцати верстах от древней столицы болящий Кар был задержан. Курьер в офицерском чине вручил ему предписание графа Захара Чернышева.
Ну, разве не досада, не пощечина, не кровная обида: перед самой Москвой, в преддверии того, к чему так настойчиво стремился Кар, читать подобные оскорбительные строки:
«А буде уже в пути сюда находитесь, то где бы вы сие письмо не получили, хотя бы то под самым Петербургом, извольте тотчас, не ездя далее, возвратиться».
Кар лежал больной в избе зажиточного торговца-крестьянина. Он молча перечел бумагу дважды. Веки его подрагивали, волосы на запавших висках топорщились. Приподняв голову, он оправил слабой рукой подушку и сказал гонцу-офицеру:
– Передайте графу Чернышеву, что его приказания вернуться к корпусу, в силу своей болезни, я исполнить не могу. Коль скоро я поправлю в Москве свое здоровье, то буду ласкать себя надеждой видеть его сиятельство лично.
И, отдохнув, Кар к вечеру был уже в Москве.
Хотя по распоряжению главнокомандующего Москвы, князя Волконского, пребывание Кара в первопрестольной от всех скрывалось, однако, как это нередко случается, чем тщательнее правительство охраняет от народа какую-то тайну, тем скорее народ эту тайну узнает, – и весть о возвращении Кара из-под Оренбурга быстро облетела всю Москву.
Если появление Кара в Казани имело там нелестную для правительства «эху», то в Москве разные досужие кривотолки, а наравне с ними самая жестокая критика поведения Кара и нераспорядительности Петербурга приняли столь недозволенные масштабы, что Екатерина, проведав о них, рекомендовала Волконскому вновь опубликовать старые сенатские указы о болтунах. Дворяне и зажиточные круги говорили о Каре:
– Это не генерал, а баба – не мог с бездельниками совладать, сбежал. Под суд его!
Подливали масла в огонь и приехавшие из Казани беглецы помещики, разнося повсюду самые тревожные известия.
Москва в своих низах далеко не была спокойна: отголоски недавнего чумного бунта9 все еще ходили по городу. О любопытных делах под Оренбургом, о грозном Пугачеве, о волнениях в Башкирии знал всякий. Изустные вести о мятеже долетели до Москвы скорее, чем писанные бумажки губернаторов.
Московские простые люди, проведав о приезде Кара, в трактирах, в банях, по базарам, а раскольники – в моленных с осторожностью передавали друг другу:
– Пугачев всыпал генералу-то... во как! Говори, где чешется... Только сумнительство берет, чтобы простой казак мог генерала с войсками покорить... Ой, не Пугачев это, не бродяга... Врут манифесты, истину от народушка сокрыть хотят... Сам Петр Федорыч это – не Пугачев...
Обер-полицмейстер Архаров хотя имел всюду свои глаза и уши, но сыщики либо не там, где надо, выслеживали болтунов, либо эти болтуны, за версту чуя врагов своих, прикидывались патриотами. Обер-полицмейстер, получавший от сыщиков утешительные сведения, вводил князя Волконского в заблуждение, докладывая ему, что на Москве «все обстоит благополучно». А князь Волконский, немало постаравшийся в деле возведения Екатерины на престол, в свою очередь обманывал свою обожаемую благодетельницу, письменно сообщая ей: «Здесь, всемилостивейшая государыня, все тихо и смирно и врак гораздо меньше стало. Только один большой, вашему величеству известный, болтун вздор болтает, не разбирая при ком, но при всех. А другие перебалтывают».