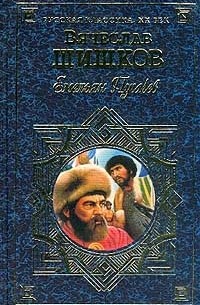Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
4
Пугачев приехал в Берду еще засветло. Следуя мимо квартиры Творогова, он на этот раз не увидел Стеши, обычно поджидавшей его приезд на крылечке. (Впоследствии Ненила сообщила ему, что Иван Александрыч Творогов, пока царь ходил воевать, жестоко оттрепал Стешу за косы и отправил ее под конвоем в свою сторону.)
По дороге стояли на коленях пришлые крестьяне с котомками за плечами, кланялись, простирали к Пугачеву руки, о чем-то молили.
Пугачев кивал народу головой и ласково, как только мог, говорил:
– Детушки! Со всякой нуждицей спешите в Военную коллегию, она все разберет, и хлеба вам выдаст, и жительство определит.
А вот и Военная коллегия – обширная, приземистая, в шесть окон на улицу, изба с вывеской, ярко намалеванной офицером Горбатовым на гладко оструганной доске.
Пугачев приостановился, хотел войти.
Через слегка приоткрытую дверь вылетал на улицу дружный хохот, громкий разговор. «Чего это там ржут?» – с неприязнью подумал Пугачев и поехал дальше, ко дворцу.
В Военной коллегии перед судьями стоял плечистый, коротконогий дядя. Он одет в заплатанный полушубок с чужого плеча – талия спустилась очень низко, полы волочились по земле; он лохматый, густобородый, нос у него картошкой, в глубоко посаженных глазах озлобленность, тоска и безнадежность. Он говорил звонким тенорком, по-смешному растягивая слова, взмахивая рукой, притоптывая лаптем.
Главный судья, старик Витошнов, посмеиваясь в седую бороденку над любопытным рассказом приземистого дяди, предложил:
– А пойдемте-ка все к государю, благо прибыл он, поздравим с благополучным возвращением, да пущай-ка он, батюшка, на потешение себе, послушает этого самого Сидора Бородавкина...
Все с Витошновым согласились, толпой повалили к Пугачеву.
После общих приветствий, поздравлений и расспросов главный судья учинил доклад государю о делах и велел думному дьяку Почиталину огласить отправленные Военной коллегией и полученные ею бумаги.
– Ладно! – сказал под конец Пугачев. – Приемлемо... А что это за человек?
Все сидели за столом, а стоявший возле двери мужичок, приударив себя в грудь, с азартом закричал:
– Надежа! Надежа! Надежа! – и повалился на колени. – Дозволь слово молвить, кормилец наш! – Уперев ладони в пол, он земно поклонился Пугачеву, из кармана разметавшегося по полу длинного полушубка выпало куриное яйцо и покатилось к ногам батюшки. Все заулыбались.
Пугачев, подметив, что у крестьянина нет на левой руке указательного пальца, проговорил:
– Встань, раб мой! С чем пришел и откуда?
– Не смею и стать-то я. Недостоин! – Лохматый мужичок подполз к яйцу, подобрал его, поднялся, выложил на стол целый десяток печеных яиц и, кланяясь, сказал: – Уж не прогневайся, прими. Как узнали, что я к тебе правлюсь, всего понадавали в дороге-то – вот и шубенку дали, а то в соломе обмотанный шел, как сноп. Ребятишки, бывало, как завидят, так и заблажат: «Сноп, сноп! Глянь – сноп идет!..» – Он задвигал густыми бровями и стал рассказывать, почесывая бока: – Пытан был и клещами жжен... И было мне пятьсот плетей и три стряски – все косточки во мне с мест сшевелены...
– Палец? – спросил Пугачев.
– Как топором вдарили – и палец отлетел... Хотели напрочь и рученьку рубить, да вот царица небесная спасла. А с чего зачалось? Бежал я от своего помещика-людоеда – от гвардии секунд-майора в отставке Лукьянова. Он, боров гладкий, и рученьку-то мою покалечил... Ну, я хвост в зубы, да и тягаля!.. Вот пымали меня под городом Ставрополем. А сам-то я с-под Арзамасу. «Как прозвище?» – «Сидор Бородавкин», – молвлю. Вот ладно. И приходит к воеводе какой-то ставропольский барин и говорит ему: «Сто лет тому назад, – говорит, – у моего прадеда мужик Бородавкин сбежал. Ну так этот, – говорит, – от его кореню. Он мой», – говорит. «Как отца звать?» – спрашивает. «Иваном», – говорю. «А деда?» – «Деда – Петром». – «А прадеда?» – «Не упомню». Тогда воевода с барином поглядели в книгу, говорят мне: «Прадеда твоего Пантелеем звать, ты от его рода и происходишь. Верно ли?» – «Нет, – говорю, – не верно. Мой прадед и все сродственники на одном погосте лежат за много сотен верст отсель, под Арзамасом, а здеся-ка Ставрополь. Это не мой прадедушка, которого вы Пантелеем называете, а я не ваш». – «Ах, Пантелей не твой прадедушка, а ты не наш? Пороть!» Вот спустили мне штанцы, заголили рубаху, шибко выдрали. Опосля порки сказал я: «Точно... прадедушку моего, превечный покой его головушке, Пантелеем звали, я от него произошел».
Члены Военной коллегии густо заулыбались, Пугачев нахмурился.
– Тогда новый мой барин отвез меня в свое поместье. А тут узнал другой барин, евонный сосед, приехал и говорит: «Этот мужичок Бородавкин – мой! У моего прадеда, – говорит, – тоже крепостной Бородавкин был, да сто лет тому назад минуло, как в бегах скрылся... Стало быть, этот мужик мой». Опять меня в суд поволокли, и оба-два барина со мной. Опять сызнова зачал меня воевода выпытывать: «Как батьку твоего звать?» – «Иваном», – отвечаю. «Врешь, не Иваном, а Гарасимом». Я сказал тут: «Какой же он Гарасим, когда завсегда Иваном звался. Я не в согласии: он по сей день жив-здоров, мой батька-то, подите справьтесь». – «Нам, – говорят, – справляться не приходится, а только что отец твой – Гарасим. Снимай портки!» Тогда я сказал: «Ну, будь по-вашему, пущай родителя моего, Ивана, Гарасимом звать. Я в согласье». – «Ну, а деда как звать, а прадедушку?» – «Дедушку Петром звать, а прадедушку, кажись, Пантелеем». – «Врешь, вшивая твоя борода! – загайкал на меня, затопал ногами воевода, – он, должно, со второго барина взятку-то ухапал поболе, чем с первого. – Твой дед не Петр, а Гаврила, а прадед не Пантелей, а Никанор. От его кореню ты и происходишь. И в списках так... Подать плетей сюда!» И принялись меня самошибко пороть. Тут, знамо дело, довелось мне признаться, что и от этого Бородавкина я вроде как второй раз произошел.
Максим Горшков уткнулся в шапку и заперхал сиплым хохотом, а глядя на него, дружно всхохотнули и прочие. Пугачев укорчиво сказал:
– До смеху ли тут! Сказывай, дядя...
– И только я, батюшка ты мой, вымолвил, что у меня-де прадедушка не Пантелей, а Никанор, а родной отец мой не Иван, а Гарасим, как судьи с воеводой затопали, завопили: «Ах ты, холопская твоя душа! Как ты посмел переменные речи молвить?! То Пантелей у тебя прадед, то Никанор. За переменные речи – пытка!» Я аж закачался. Ну, думаю, порешат мою жизнь на пытке-то. Слышу, оба барина руготню из-за меня подняли: «Мой он! Не отдам!» – «Нет, мой!» Да давай плеваться в морды, а тут и в волосья друг другу вцепились. Судьи разнимать их кинулись и про меня забыли, а я чох за окно да на Волгу, да в челн, – так вот и утек. Да прямо к тебе, надежа-государь, хошь казни, хошь миловай!..
Пугачев почесал за ухом, посмотрел вопросительно на судей, сказал:
– Что же тебе надобно, обиженный?
От тихого, уветливо произнесенного самим батюшкой слова «обиженный» у мужика брызнули слезы, но, сделав над собою усилие, он сдержался. Глубоко запавшие глаза его вслед за слезами вдруг наполнились яростью, он закричал, ударяя себя в грудь кулаком:
– Дай мне, надежа-государь, человек с двадцать разбойничков, брошусь я помещиков резать... Перво-наперво свово барина, гвардии секунд-майора Лукьянова, жизни решу, а тут воеводу устукаю да двух бар тех, что за прадедушек чужеродных шкуру мне со спины спустили... Душа из них вон, дай!
– Утихомирься, друг мой, – махнул рукой Пугачев и, подумав, спросил Бородавкина: – Вот ты гораздо много места прошагал – ну, как крестьянство-то там? Приклонятся ли они ко мне, государю своему?
– И не спрашивай, надежа-государь! – опять закричал Бородавкин. – Только дай весточку, да подмогу какую ни то пришли, да свою грамоту орленую... А уж там... Чего тут... Ведь я к тебе тридцать шесть парней привел да четверых солдат беглых. Шесть самопалов у них, звероловы – мужички-то...
Военная коллегия, по совету Пугачева, постановила: организовать легкий полевой отряд, во главе поставить сотника Калинина и челобитчика – крестьянина Бородавкина, снабдить их манифестами для оглашения в людных местах и раздачи населению, направить отряд в сторону Волги, указав руководителям отряда их задачи: разорять помещичьи гнезда, провиант и фураж доставлять на барских и крестьянских подводах в Военную коллегию, подымать народ именем государя Петра Федоровича Третьего.
Подобных отрядов в двадцать пять, пятьдесят, а иногда и в сто человек создавалось Военной коллегией все больше и больше, благо находились охотники с горячими головами. Эти летучие отряды посылались во все стороны от Оренбурга. Помимо того, то здесь то там, в близких и весьма отдаленных от Оренбурга местах, самостоятельно возникали мятежные «толпы» со своими атаманами, со своими полковниками, а иногда и собственными Петрами Федоровичами Третьими. Особенно много таких «толп», как грибов после дождя, зарождалось в башкирских степях, а также на Южном и Среднем Урале.