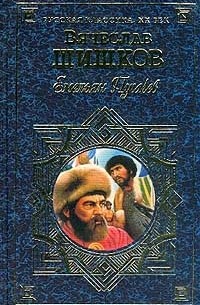Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
4
Заглянем опять в Берду, в главную ставку пугачевской армии.
Отец Иван жил вместе с Бурновым в маленькой покосившейся хате. Он допился до чертиков и в горячечном состоянии был опасен. В своей избе порубил топором стол и табуретки, разворотил печь, отыскивая в ней спрятавшихся бесов, ошпарил кипятком черного кота, а бородатую козу убил поленом, приняв ее за нечистую силу. Одутловатое лицо его с отвисшими мешками ниже глаз стало багровым, водянистые выпученные глаза блуждали, как у сумасшедшего, он весь трясся и был жалок видом. Захворав белой горячкой, он сразу бросил пить. Бурнов стал ухаживать за ним, как за родным отцом: каждый день водил его в жаркую баню, до потери сознания хвостал его там веником, отпаивал огуречным рассолом, кормил кислой капустой, редькой, луком, чесноком. И ни капли не давал вина. Сознание попа начало постепенно проясняться. А когда коновал припустил ему двадцать пять пиявок, отец Иван окончательно в ум вошел.
Спустя неделю после вытрезвления, однажды вечером, под завывание жестокой бури, они затопили русскую печь и на придвинутой скамье оба уселись возле живого огонька. Свечу не зажигали, так лучше. Сумерничали молча, бесперечь курили трубки, вздыхали.
Отец Иван весь как-то обмяк душой, ему захотелось поведать о себе постороннему человеку, услышать от него сочувственное слово. Дрова, потрескивая, разгорались. Отблески красноватого пламени прыгали людям на колени, елозили по груди, озаряли задумчивые лица, и узкое оконце с морозной белой росписью плавно покачивалось, розовело.
– Я Иван да ты Иван... два Ивана, – начал поп и прищурился в хайло печки на игривые взмахи пламени. – Два Ивана мы с тобой, токмо поставлены Богом в разные концы. Я жизнь давать людям чрез святое крещение в купели, а ты – смерть. И хоть в разные концы мы поставлены с тобой, два Ивана, а дорога наша теперича одна – во ад кромешный, в пекло, идеже плач и стенания. – Расстрига-поп горестно покивал поникшей головой и, потрепав мрачного соседа по плечу, молвил: – Слушай, чадо Иване... Как приспеет тебе время на шее моей петлю затягивать, молю тебя: сперва ударь меня по затылку кирпичом, чтоб очумел я... Просто-напросто возьми да и тяпни! Трезвый молю тебя о сей милости. А то боюсь, страшно.
– Пошто я тебя стану вешать?
– Нет, нет, будешь... Чую, что будешь! Тебе повелят тако сотворить. Язык мой неистов. Я страшусь, как бы не повернулся он супротив батюшки. А батюшка иным часом лютует... Сам не свой... Зело боюсь.
Угрюмый Бурнов молчал, поленья потрескивали, бушевала вьюга, калитка во дворе скрипела и хлопала.
– Хочешь, поведаю тебе всю печаль мою? Никогда не говорил тебе, а скажу. Слушай. Сотворил мне толикое огорчение помещик наш, гвардии штык-юнкер в отставке Гневышев, – начал бородатый батя, не обращая внимания на всегдашние грубости Ваньки Бурнова. Отец Иван был без рясы, в синих в белую полоску заплатанных портках из домотканины, в такой же рубахе, подпоясанной мочальной лычкой, и вдрызг растоптанных грязных лаптишках. В таком наряде он походил на обычного бородатого, лысого мужика.– Попадья моя, Марья Митревна, осиротила меня еще в молодых годах. Умерла, голубка, премного мучаясь родами, и оставила на моих руках младенца, дочку Вареньку, небесного херувима... Ох Господи, твоя воля!.. Тяжко и вспоминать-то мне...
– Ну, так и не вспоминай!.. Ишь пристал! – кричал Бурнов, в то же время подавая отцу Ивану уголек для раскура трубки.
– Балда, слушай, – сказал расстрига, попыхивая трубкой. – И вот взросла моя возлюбленная дщерь, аки лазорев цвет в саду. Столь прекрасна была моя Варенька, столь обильна женской прелестью, что зрящие ее ахали и руками восплескали: ах, красота, ах, зрелище небесное! И любил я доченьку свою превыше всего на свете. Ну да и она, спасибо ей... Только и слышалось, бывало, в горинцах моих: «Папенька, милый мой папенька! Радость моя, папенька!» Господь среди нас пребывал, благодать Божия почивала... И стал я, грешный иерей, жениха присматривать ей, голубице чистой, супруга благонравного. Приход наш был бедный – а каков приход, таков и поп: жили мы с Варенькой в нуждишке. И одевалась она, как простая вахлачка, в лапотках ходила. Да ты, чадо Иване, слушаешь меня?
– А подь ты... Я про свое думаю... Отстань!
– Ну, ладно, коли так. Молчать буду. Прильпне язык мой к гортане моея.
Обиженный поп смолк, закинул ногу на ногу, сугорбился. Бурнов, подбросив в печку дров, поворошил клюкой, снова сел плечом в плечо с расстригой, сказал:
– Чего молчишь, как удавленник? Сказывай!
– Вот арясина! – забрюзжал поп. – Ладно, слушай... Пошла как-то под осень Варенька моя с девчоночкой малой в лес по грибы и не вернулась... А девчоночка суседская вмах прибежала, чуть жива, трясется вся, говорит: «Наехал, – говорит, – с дворней со своей наш барин, подхватили они Вареньку, да и были таковы. Варенька на весь лес гвалт подняла, как кошка, – говорит, – царапалась, да где там... А я, – говорит, – со страху чуть не лопнула, ой!» Боже мой, Боже мой! И с того клятого часа начались мои сугубые страдания, великая скорбь, горше человеческой... Иване, милый, ведь дщери, дщери единокровной лишился. Слушай дале. Я в плач, я в стенания великие; власы на себе рву, головой об стену колочусь. Нарядился я во все новое, пошел к помещику, оскорбителю своему, усачу штык-юнкеру Гневышеву. Не допустили, в шею вытолкали. Я в город, с жалобой к воеводе. А там только зубы скалят, и никакой помощи. Гневышева все боятся – богач он, задаривает и воеводу, и всех стрюцких. Так неделя проходит, другая проходит, и стал я, грешный иерей, попивать. А тут, под самую осень, такая пора подоспела, что ах! Мужицкие бунтишки по нашему уезду зачались то в одном, то в другом месте, крестьянство царя-заступника поджидало. Глядь-поглядь, привалила ко мне толпища мужиков с топорами, с вилами, с ружьишками и говорит: «Батя, мы тебя шибко жалеем, извелся ты весь. Хочешь, Вареньку твою от барина отвоевывать пойдем?» А я малую толику выпивши был. И вот всей толпой двинулись мы на барский двор. Тут дворня выскочила, егеришки, собачья псятня – гвалт, лай, крики, стрельбище! Мои мужички как напрут, да как напрут – кого перекололи, кого связали, в хоромы ворвались. Я командую: «Православные! Ищи кровопивца барина!» А старик дворецкий и говорит: «Барин вскочил верхом да в город за солдатами ускакал. Ужока будет вам!..» – «Кажи, Архипыч, где Варенька моя?» – «А твоя поповна с прочими красотками в светелочках упомещаются, вверху». Мы гурьбой наверх, я да трое старичков, духовных чад моих. Вбежали мы наверх по вертучей лесенке, рывком распахнул я дверь, глядь: прикорнула моя голубица на диване, горько плачет, кружевным платочком утирается. А сама одета будто княгиня – в шелках да в бархатах, и на лебединой шейке жемчуга. Я припал пред ней на колени: «Варенька, утешение мое, ангел Божий! Выручать тебя прибежали мы... А ежели оскорбителя твоего, штык-юнкера, поймаем, в куски изрубим. Бежим скорей, несчастное детище мое!» А она как завизжит: «И не подумаю!.. А ежели ты, отец, хоть пальцем тронешь моего Васеньку, знай, удавлюсь либо зарежусь!» Чуешь, Иване, чуешь, что дщерь-то мне рекла?
– Вона! – закричал Бурнов. – Так и надо... И я бы не пошел к тебе, будь на ее месте...
Поп Иван, весь дрожа, посмотрел с горестью в его одноглазое страховидное лицо, с рыжими торчащими вихрами, тяжело закашлялся с сипотой и вздохом и, успокоившись, укорчиво сказал:
– Э-хе-хе!.. Выгнала она меня, своего родителя, и ножкой топнула. Так у меня, веришь ли, сердце человечьим голосом застонало, кровь черными печенками спеклась. Я затрясся, с порога крикнул ей: «Ты не дочь мне. Ты блудница вавилонская! Будь проклята отныне и до века!»
– Дурак ты, распоп... Бороду гладишь, а денег нет, – проговорил Бурнов. – Уж на что рыбина, и та на добрую приваду идет, а человек, тем паче девка, и подавно...
Поп Иван встал, закинул руки назад и, сильно ссутулясь, будто нес он на загорбке мешок тяжелого, как свинец, горя, принялся ходить в сумраке от стены к стене. Палач живым своим глазом внимательно следил за ним.
– С тех самых пор, чуешь, заделался я беспросыпным винопивцем, – печально сказал поп. – За стаканчик почасту держаться стал. А тут оклемался малость, и довелось мне парня с девкой в храме Божием венчать. Как возложил на них венцы да повел вкруг аналоя – замест «Исаия, ликуй» затянул я во всю глотку: «Ай, Дунай ты мой, Дунай», подобрал рясу да ну вприсядку... Меня и расстригли и с позорищем превеликим из прихода изгнали. И стал я шататься по России, яко Христа ради юродивый. Конец свой чаял где ни то в крапиве под забором; да, слава Богу, дал мне приют в жизни сам царь-государь. Аминь.
Возженная попом-расстригой лампада сияла у икон. Бурнов готовил ужин, а поп Иван надел рясу, надел измызганный парчовый епитрахиль и, возгласив: «Господу помолимся!», опустился перед иконой на колени.
– Молись, чадо мое, Иване!
– Отстань! – возразил Бурнов. – Так и так пропала душа моя.
– Молись, Иване!
– Отстань! Я лучше разогрею к ужину...
Отец Иван под вой вьюги за окном с горячим усердием выкрикивал: «Боже, милостив буди нам, грешным!», гулко ударялся лбом в пол, орошая половицы солеными слезами. Палач натаскал в большой чугун воды, с помощью ухвата задвинул его в пламенную печь, принес корыто, выволок из мешка грязное поповское исподнее: вот уложит попа спать и займется стиркой.
За ужином поп молчал, а палач вел разговор, бросая слова отрывисто и скупо:
– Видишь, глаз у меня кривой? Это – барин. А за что? Барин пьянствовал с голыми девками, а я, парнишка, в щелку, через дверь подсматривал. Я при барине жил, трубку подавал. Матерь моя тоже при барине. Прачка. Барин приметил меня, выскочил! Меня за волосья. В прихожей цветок стоял. Он вытащил из плошки палочку – цветок к ней подвязывали. Бряк меня на пол! Сел на меня да вострым-то концом палочки тырк-тырк мне в глаз! Я заорал и чувствий порешился. Уж дюже больно! Вспомню – о сю пору мурашки по спине. Мамынька прибегла, барина по рылу. Тот свалил ее, топтать зачал. А она пузатая... Скинула мертвенького, померла. Батьки у меня не было. Сбитень я! Меня так и звали «Сбитень». Спалил я дом барский да в бега ударился. В казаки попал! А тут и к батюшке царю. Бар ненавижу люто... И всех супротивников батюшки. Вздернуть кого – кладу себе во счастье. Счет веду! Я царя-батюшку хоша люблю, только, ежели не царь он, а обманщик, – и его повешу...
– Неужели, Иване?!
– Вот те Христос, повешу!.. – прокричал Иван Бурнов, не подозревая, что в судьбе царя-батюшки ему доведется впоследствии и впрямь сыграть роль мрачную.
Поужинав, поп лег спать. Во сне мычал и громко бредил, иногда вскакивал, таращил неспокойные глаза, закрещивал воздух: «Сгинь, сгинь!» И вновь валился.
Бурнов с усердием долго стирал бельишко. Затем разогнул уставшую спину, осмотрел поповы ошметки-лапти и швырнул их в пламя, а возле кровати, на которой храпел поп, поставил свои запасные, подшитые валенки. Голова попа-расстриги скатилась с изголовья – он спал, разинув толстогубый рот и чуть приоткрыв глаза; выражение отечного лица его было болезненно и жалко.
По спящей слободе горластые перекликались петухи, отбивали где-то близко «побудку» да высвистывала свою песню вьюга.