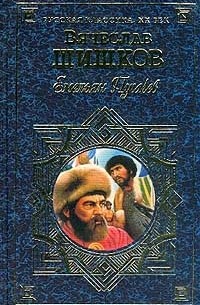Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
3
В это время там, в Зимовейской станице, казак Иван Семибратов вместе с большой толпой станичников стоял возле хаты своего бывшего друга Пугачева. Ядреный, большебородый, с лицом простым, широким и несколько придурковатым, он глазел на то, как сжигали пугачевское жилище.
Впереди толпы стояли: майор Рукин, войсковой старшина Туроверов, станичный атаман Прохоров, местное духовенство в облачении, почетная сотня донцов с ружьями. А возле самого дома орудовал с горящим факелом в руке палач.
Что же это за странное «позорище», чьим велением пущено пламя, превратившее в дым и пепел жилище Емельяна Ивановича Пугачева?
В январе императрица повелела Бибикову и атаману войска Донского:
«Что же касается дома Пугачева, то Донское войско имеет, при командированном из крепости св. Димитрия26 штаб-офицере, собрав священный той станицы чин старейшин и прочих жителей, при всех них сжечь и на том месте чрез палача или профоса пепел рассеять; потом то место огородить надолбами, оставя на вечные времена без поселения, яко оскверненное жительством на нем все казни и лютые истязания делами своими превосшедшего злодея, которого гнусное имя останется мерзостью навеки, а особливо для донского общества, яко оскорбленного ношением тем злодеем казацкого на себе имени».
И вот он, по приказу царицы, совершает обряд огневого поругания жилища того, чье имя должно было остаться «мерзостью навеки».
Станичный атаман, длинноусый и толстый, громоздясь на высоком, в четыре ступени, рундуке, кончил читать грамоту императрицы:
– «...яко оскорбленного ношением тем злодеем казацкого на себе имени. Хотя отнюдь одним таким богомерзким чудовищем ни слава войска Донского, ни усердие к нам и отечеству помрачиться не могут».
Изба Пугачева стояла в унылой покорности, как ожидающий казни человек, и задумчиво слушала слова царицы. Два окошка ее распахнуты, будто живые немигающие глаза, готовые заплакать. Серая с прозеленью из трухлявой соломы крыша притулилась вправо, словно отчаянно сдвинутая на ухо шапка. Эх, пропадать так пропадать!
А ведь старая изба многое могла бы рассказать родным станичникам. Ведь ее выстроил и умер в ней первый ее хозяин – Иван Пугач. В ней родился Омелька, и вот Омельки нет, и нет его Софьюшки с ребятами. И продали ее, избу, отставному казаку Евсееву за 24 рубля 50 копеек, и новый хозяин перевез ее к себе в Есауловскую станицу. А после приехал офицер, отобрал избу от Евсеева, велел сломать и снова перевезти «прямо на то место, где его, злодея, Зимовейской станицы обитание имелось».
Протрубил медный рожок, забили барабаны. Казаки дали дружный залп из ружей. Палач, в красном фартуке сверх полушубка, враскачку подошел к пугачевской избе, набитой соломкой, и через открытое оконце ткнул в солому горящий факел. Изба-преступница разом вспыхнула и, стремительно выбросив из окошек мстительные пламенные руки, как бы пыталась схватить палача, превратить его в головешку. Но палач уже бежал к другой пугачевской «хижине с огорожею». И там запылали огни. Затем загулял топор по садовым деревьям: трупы вишен и яблонь свалены были в кучу и также преданы огню.
Иван Семибратов с грустью смотрел на пожарище, глубоко вздыхал, вспоминая своего боевого друга, и на его глаза навертывались слезы. В мыслях его, одна за другой, возникали картины из совместного странствия из Зимовейской станицы, от этих сгоревших стен на многоводную Каму. Да, да, попито, погуляно! Золотое было время. А ныне вот Семибратов остепенился, миловзорную жену себе завел, двух ребят имеет. Ну и жаль, ну до чего жаль, что нет с ним Емельяна Пугачева. «Эх, дурак, дурак, сколько всем хлопот наделал, в цари полез... Хоть бы разок взглянуть на твою рожу-то, Омелька, каков ты есть», – в простоте душевной раздумывал степенный Семибратов.
Все сгорело, все навеки исчезло с лица земли, пепел развеян, преступное место посыпано солью и проклято. Огонь, дым и пепел. Так возникла, пришла и закончилась одна из диких сказок русской истории.
Впоследствии, якобы по просьбе жителей, станица Зимовейская перенесена была в другое место и названа Потемкинской.
Екатерина, соблюдая интересы государства, издавна нянчилась с донским казачеством: одаривала чинами, землями и деньгами начальствующих, давала широкие льготы и рядовым казакам. Такая политика Екатерины принесла во время пугачевского движения свои плоды: еще в октябре 1773 года, когда раздались первые раскаты бури, войско Донское постановило выбрать тысячу человек из лучших (зажиточных) казаков, с тем чтобы они были готовы к походу против мятежников. А в конце ноября полковник Илья Денисов просил разрешения Военной коллегии идти с отрядом в пятьсот казаков прямо под Оренбург для поражения самозванца. В рапорте он писал, что «Емельян Пугачев его старый приятель», он в Семилетнюю войну был у Денисова ординарцем, и Денисов за некий дисциплинарный проступок наказал его «нещадно плетью».
Екатерина приказала Денисову следовать с казаками в Самару и поступить там под начальство генерал-майора Мансурова.
На подавление мятежа Екатерина потревожила и малороссийского казачество. Направляя тысячу казаков к Бибикову в Казань, царица писала ему: «В сих исстари ненависть примечена к яицким, а употребить их будете, как знаете».
Волжское казачество тоже получило соответствующие распоряжения. Таким образом, против Емельяна Пугачева с частично передавшимися ему яицкими, илецкими и оренбургскими казаками были подняты отряды почти всего казачества империи.
– Вот прислушайтесь, атаманы-молодцы, – обратился Пугачев к собравшимся своим ближним. – Старики кладут мне совет на казачке жениться, дабы вашей и всероссийской царицей она была.
Озадаченные столь неожиданными словами «батюшки», атаманы нахмурились: то друг с другом перебросятся взглядом, то на Пугачева взор переведут.
Лишь Иван Творогов, ревновавший «батюшку» к своей красавице жене, подумал: «Разлюбезное дело было бы женить царя».
Понуждаемый упорным взглядом Пугачева, атаман Каргин, человек суровый и благочестивый, первый поднялся, первый с поклоном слово молвил:
– Батюшка, твое величество, дело со свадьбой персоны вашей зело многотрудно, надо бы об этом всем войском усоветоваться, а не тяп да ляп. Мое слово стариковское – подождать тебе, не торопиться...
Пугачев нахмурился. Вот опять атаманы в его тайные планы нос свой суют. Поднялись Перфильев с Овчинниковым, сказали:
– Ты, батюшка, еще не основал порядочное царство. Как бы худа какого не стряслось... Кто его ведает...
– Я ведаю! – сухо промолвил Пугачев и поднял голову, глаза его горели и чуть враскос пошли. – В том есть моя государственная польза. И годить мне с этим делом недосуг!
– Когда ты, батюшка, в том видишь пользу, так женись,– с готовностью сказал Иван Творогов. – Верно ли, атаманы?
– Да уж... чего тут... Его царская воля, – ворчливо отозвались старшины с атаманами.
– У нас на примете девица пригожая и постоянная, – стараясь смягчить свой суровый голос, сказал атаман Каргин. – Да к тому же, отец наш, она и тебе ведома.
Пугачев хмуро ухмыльнулся, поскреб ногтем чисто выбритое на щеке место.
Встревоженная бывшим в ночи сном, Устинья сидела под окошком в унынии. А сон вот какой: будто бы идет она вдоль речки с венком на голове, а из омутины вдруг рука выставилась, на пальцах драгоценные перстеньки сияют, поманила ее рука и снова – в омут.
– Сон дрянной, – со вздохом сказала Устинье сноха ее, Анна Григорьевна. Сам-друг сидели они дома. – Как бы тебя сатана какой в омутину не упер.
– От сатаны открещусь, – сверкнула Устинья глазами и вдруг услыхала бубенцы. Прильнула маленькими губами к оконцу, быстро продышала глазок в промороженном стекле, взглянула. – Глянь, Анна, кто подъехал-то... Глянь скорей!
И не успела от оконца отойти, как вошли в избу Толкачев со своей женой Аксиньей и Ваня Почиталин.
– Стой, Устинья Петровна! – крикнул Михайло Толкачев. – Куда ты убегаешь?
– Садитесь, гостеньки, – сказала Анна Григорьевна, сноха.
Все, не раздеваясь, сели. Устинья, опустив голову, стояла возле притолоки, исподлобья смотрела на пришедших. Толстозадая Толкачиха, оправляя шаль, приторно и лукаво улыбалась. Толкачев, отставив ногу в бараньем вверх шерстью сапоге, с важностью проговорил:
– Мы, Устинья Петровна, голубка наша, на посмотренье к тебе пришли. А ты, глупенькая, было в бег ударилась.
– Я не лошадь, а вы не цыганы. Чего меня смотреть, – дерзко ответила казачка.
– Мы со счастьицем к тебе пришли, Устинья Петровна, – начал застенчивый Почиталин и замялся.
– Уж такое ли счастьице привалило к тебе, свет ты наш Устиньюшка, такое ли счастье, что и не вымолвишь... Честь-то какая, Господи помилуй, – сладким голосом взговорила Толкачиха.
У девушки обмерло сердце, и темная омутина возникла перед ее глазами. Царица небесная, спаси...
– Мы, Устинья Петровна, пришли высватать тебя за гвардионца, – сказал, подбоченясь, Михайло Толкачев. – Оный гвардионец кланяться тебе наказывал.
– Никакого вашего гвардионца мне не надобно, – опять сверкнув глазами, проговорила Устинья. – Да к тому же и мой батенька хоронить своего племянника уехал.
Сноха Анна подала гостям кринку молока и хлеба. Гости отказались, им недосуг, их с нетерпением поджидает гвардионец, прощайте-ка, покамест, извините за беспокойство, до скорого свиданьица.
И как только, низко поклонясь одной Устинье, ушли они, Анна раздраженно залопотала:
– Легко ли дело, тоже выискались... сваты, ха, подумаешь! Их много, этих гвардионцев-то, батюшка с собой навез... Эвот усач какой-то при нем, Перешиби-Нос, и прозвище-то какое, тьфу! Да нешто мало их приблудилось к государю-то?
Вскоре приехали братья Устиньи – младший, живший при доме, – Андреян и старший Егор – казак пугачевской армии. А за ними следом, уж во второй раз, все те же сваты в сопровождении целой сотни казаков, прискакавших под началом полковника Падурова. Есаулы, сотники, хорунжие, вместе с Падуровым, тоже вошли в дом. Устинья заперлась в соседней горнице. Падуров толкнул к ней дверь.
– Устинья Петровна, пожалуйте к нам! Здесь собрались ваши доброжелатели.
Андреян с Егором и Анна удивленно пучили глаза. Устинья через дверь ответила:
– Как я выйду на люди, когда я не срядно одетая?..
– Ничего, ничего! – раздувая усы и улыбаясь, прокричал Падуров. – Выходите запросто, в чем есть, без всякого наряда.
– Повремените малость, выйду, – ответила Устинья, в ней стало разгораться и любопытство и охвативший ее дух упрямства: и чего они, псовы дети, к ней вяжутся? Ох, и намахает же она этого непрошеного гвардионца...
Наскоро переоделась, но не в лучший наряд, а в скромное платьице, в то самое, в котором ездила с симоновской Дашей к «батюшке», расчесала медным гребнем пробор на голове, взбила природные возле ушей кудряшки, белыми зубами немножко пожевала губы, чтоб оказывали ярче, и принялась со всем усердием креститься на деревянную икону.
Вдруг слышит: в горенке зашумел народ и что-то прокричал, скамьи с табуретками задвигались, шаги загромыхали, и чей-то знакомый голос звонко взговорил:
– А ну-ка подивлюсь, какая такая отецкая дочь есть? Покажьте-ка мне ее, сироту...
У девушки сжалось сердце, она стиснула зубы, рванула дверь и, вся осиянная своей юной красотой, вышла на люди.
Глянула вперед, и голова ее закружилась: закинув ногу на ногу, сидел перед ней чернобородый, помолодевший царь в цветном полукафтане и с саблей при бедре. А позади него стоял, накручивая длинные усы и улыбаясь, бравый усач с чубом (Тимофей Падуров). Должно быть, сам «батюшка» главным сватом хочет быть. Но ведь она молодешенька, ей еще в девках охота погулять...
Устинья, тяжело передохнув, поклонилась Пугачеву, обвела помутившимся взором собравшийся народ и встала возле печки, дивясь самой себе, почему на нее вдруг накатилась такая робость.
– Посмотреть хочу, какова ты есть, отецкая дочка! – повторил Пугачев, прищуривая то правый, то левый глаз и подбоченившись. – Выросла, подобрела... А ведь не столь давно была у меня, за Пустобаева просила. Ну, так сродственник твой, старик Пустобаев, здесь, с моим императорским конвоем в Яицкий городок прибыл. Довольна ли? Ась? Чего молчишь? Ну, подойди, подойди ко мне...
К Устинье подскочила сноха Анна, взяла ее за руку и подвела к Пугачеву. Устинья в упор, не мигая, смотрела на него. Глаза ее горели, горели щеки.
– Хороша... Хороша-а-а, – сказал Пугачев, накручивая ус, и встал. – Ну, так быть тебе всероссийской императрицей!
Устинья всплеснула ладонями, ее сильные руки упали, как у мертвой.
Пугачев подал ей шелковый мешочек с тридцатью серебряными рублями и проговорил:
– Помнишь, швырял я в тебя деньгами, да попасть не мог, ну а теперь вот попаду: бери! – Тут он обнял ее, поцеловал и молвил: – Поздравляю тебя царицей.
Заскрипела дверь, в избу вошел вернувшийся Петр Кузнецов. Ошеломленный, он ничего не мог понять. Плачущая дочь бросилась ему на шею:
– Батюшка... родимый!
Два казака живо подхватили Кузнецова и опустили на колени перед Пугачевым.
– Встань, – приказал Пугачев. – Ты ли хозяин сего дома и твоя ли это дочь?
Шестидесятилетний видный Петр Кузнецов, подымаясь, сказал:
– Так, надежа, точно! Я хозяин здесь, а эта девушка – родная дочерь моя, Устинья.
– Ну, спасибо, что поил да кормил ее. Я, государь, намерен возвести ее в супруги свои.
У Кузнецова разошлась бледность в лице, он снова повалился Пугачеву в ноги и подавленным голосом, пополам с отчаяньем и скорбью, закричал:
– Батюшка! Тупа, глупа она да молодехонька, ей только семнадцать минуло... Не понуждай ее, голубку, неволей замуж выходить хоша бы и за тебя, наш свет. Да и меня-то пожалей: уйдет, некому будет меня, старика, обшить, обмыть. Старухи-то нет у меня, померши.
Пугачев нагнулся и вместе с Падуровым поднял его, плачущего.
– Слушай, старый! Вдругорядь говорю тебе: я, государь, намерен на дочери твоей жениться! И чтоб к вечеру готово было к сговору, а завтра быть свадьбе! Время военное, чтоб скоропалитно было!
Затем подошел к рыдающей Устинье, приголубил ее, сказал:
– Брось слезы лить, Устиньюшка. Готовься к венцу, – и в сопровождении свиты вышел.
Для дворца был выбран самый лучший в городке двухэтажный дом Бородина.
За убранством дворца досматривал Падуров. Он же выдумывал и всю церемонию предстоящего торжества.
Овчинников сказал ему:
– Слышь, Тимофей Иваныч! В недавнем походе бывши, я толстобрюхого повара-француза с собой привез... Барина-то Овсянкина, по приговору мужиков, приказал повесить, а евоного повара взял, подумал, что авось сгодится нам.
– Вот и расчудесное дело, Андрей Афанасьич!.. Пущай-ка он заморским обедом удивит нас.
Повар Людвиг орудовал в кухне Михайлы Толкачева, готовясь к завтрашнему балу. Он такое аля-трю-трю загнет, что гости пальчики оближут. Уж ежели в разбойничье гнездо попал да от виселицы спасся – бьен мерси, – он всмятку расшибется, а ихнему «мужицкому царю» потрафить должен непременно.
В избе старика Пустобаева дежурил казак: приказано было одному казаку следить, чтоб Пустобаев за эти дни к вину не касался, ибо он будет на свадьбе читать в церкви «Апостола»; он всегда, бывало, занимался этим делом на знатных свадьбах; могутней его голоса нет по всему Яику, нет ни в Оренбурге, ни в Казани. Вот-то уже рявкнет! Безграмотный, он знал «Апостола», как многие церковные стихиры, наизусть. Скучая без вина, старик становился лицом к иконам и начинал пробовать голос. Старуха бросала прясть куделю, затыкала уши, кричала:
– Окстись!.. Чего ты гайкаешь, как в степу... Верблюд нескладный!
Весь городок, узнав о свадьбе, пришел в смятение. Экое счастье привалило этим Кузнецовым, казацкой голытьбе, ужо-ка носы как задерут! А Устька-то, девчонка-то, царицей будет, ха-ха-ха! Ну да и то сказать: казакам лестно. Только надолго ли все это, ох – надолго ли?
Около сумерек к Кузнецовым подъехала в сопровождении судьи Военной коллегии Данилы Скобочкина подвода с сундуком. Скобочкин открыл внесенный в светлицу сундук и стал швырять из него на девичью постель всякое добро, приговаривая:
– Государь наш Петр Федорыч кланяется тебе, Устинья Петровна, сими дарами. Вот новая шуба лисья длинная – раз! Вот душегрей меховой, малодержанный – два! Вот два сарафана, вот наряд боярышни парчовый с кокошником и поднизью. Да пять рубашек самолучших голевых, да сороки, да кички бабьи, да всякого добра. Ты, свет Устинья Петровна, принарядись и суженого поджидай. Таков наказ.
Посланец уехал. Главная сваха Толкачиха с подругами невесты начали Устю обряжать. Когда принялись надевать рубаху на дрожащую всем телом девушку, разбитная курносая баба Толкачиха, успевшая хлебнуть винца, было начала отпускать всякие словесные нескромности по поводу женской наготы, однако девушки ее тотчас осадили.
Вот они звонкими голосами подняли заунывную:
Устинья горько заплакала; глядя на нее, принялись плакать и подруги, заплетавшие ее густую, льняного цвета, косу.
Возле печки, за переборкой, гремя ухватами и плошками, возились со стряпней сноха Анна и родная сестра невесты, двадцатидвухлетняя Марья Петровна, по мужу Шелудякова. Пекли, жарили всякую всячину, варили из сушеных урюка, ягод и ржаной муки любимую казаками кулагу.
То и дело в кухню отворялась дверь, приходили казаки-соседи, вынимали из кошелей разную снедь, с поклоном совали ее на скамьи:
– Нате-ка-те, возьмите-ка-те, – прислушиваясь к жалобным песням за перегородкой, мотали бородами, уходили. А в подворье, где старик Кузнецов чистил с сыном Андреяном лошадь, брали старика за плечи, целовали, поздравляли с царской милостью, заискивающе говорили:
– Кой да чего принесли твоим бабам-то... Икорки, да баранинки... да рыбки! Ты ведь наш, Петр Михайлыч; ты ведь рядом с нами в непослушной стороне супротив генерала воевал. А ныне вот милосердный Господь через Устинью Петровну вознес тебя. Ну так при случае и ты не забудь нас, бедных, батюшка.
А как пал на землю вечер, в домишке Кузнецова собрались на «подвеселок» званые гости. Приехал с ближними и сам Емельян Иваныч. Он сел в красном углу под образами.
Сноха с Толкачихой вывели под локотки невесту. Высокая, статная, в голубом сарафане с позументами, с большими серебряными пуговицами на груди, в девичьем богатом кокошнике, Устинья сразу приковала к себе все взоры.
– Эх, и одета-то как! – восхищенно выкрикнул старик Денис Пьянов.
Заплаканные темные глаза Устиньи глядели как-то отрешенно в пустоту. Может быть, вместо знакомых и родных, вместо своего суженого она снова увидала бездонный омут с торчавшей из него рукой. «Сюда, ко мне», – откуда-то снизу, со дна живой реки раздается мертвый голос. И черная рука тянется, тянется из омута к ее девичьему сердцу, и все пальцы той руки в драгоценных кольцах. Ветер, шум, тьма, гнутся к земле ветлы.
Вдруг властно:
– Устинья! – и ласково-ласково, как тихие гусли: – Иди, кундюбочка моя, сюды.
Видение сразу лопнуло, как дождевой пузырь: сгинул омут, нету ветра, и вместо тьмы – мигучие огоньки горят.
И побледневшая Устинья, сомкнув обескровленные губы, села рядом с государем.
– Я буду бережение к тебе держать, Устинья, – еще ласковей шепнул он ей на ухо. Она в ответ лишь повела бровями.
И подвеселок, или сговор, начался. Гуляли, ели, пили до самой утренней зари.