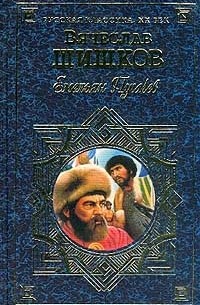Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
2
Два бывших гренадера – старик Фаддей Киселев и молодой Брусов, уже с обрезанными косами и в казачьих шапках-трухменках, поджидали Шванвича на улице.
– А мы уж вашему благородию и хибарку разыскать спроворили, – сказал старик, приветливо улыбаясь. – Извольте идтить за мной!
Втроем шагали они улицей. Народ уже разошелся со зрелища по своим делам. Навстречу попались подвыпившие казаки. Раскачиваясь в седлах, сладко улыбаясь и полузакрыв глаза, как соловьи, они горланили песню.
– Зюкнувши! – подмигнул в их сторону молодой Брусов и облизнулся. – Ох и гуляки же эти казачишки!
По дороге тянулся большой крестьянский обоз с бревнами. То здесь то там, между старыми жилищами, на огородах и в поле, не одна сотня мужиков наскоро рубили себе избы.
За четыре дня было выстроено до шестидесяти кой-каких хатенок, с глинобитными печами, об одном крошечном оконце, затянутом распяленным бычьим пузырем или тонкой льдинкой. А лесу заготовлено еще на сотню изб.
Тут же, на стройках, возились бабы; они доили коров, кормили овец, свиней: многие крестьяне, разгромив господские владения, перебирались в государев табор со всем своим имуществом, не забыв при этом прихватить и кой-что из барского добра. Крестьяне были одеты пестро: и в последнюю рвань – прореха на прорехе, и в добротные тулупы с полушубками. На ногах валенки, лапти, яловые сапоги с подковками.
Возле кустарника работали две новые кузни. Бежавшие от господ крестьяне-кузнецы подковывали казацких лошадей, делали для мужиков острые, в виде рогатки, копья или оковывали железом концы закомелистых березовых дубинок.
– Это лучше сабли ошарашит! – смеялись крестьяне, пробуя дубинки.
Всюду костры, дымки, говор, смех, визг пил, стук топоров. Там вздымали верхний венец, поухивали: «Раз-два, еще разок! Раз-два, матка идет! Раз-два, подается! Пошла-пошла-пошла!»
Шванвич, шагая к себе, с удовольствием присматривался к этому живому, деятельному бытию. Фаддей Киселев хотя и хмурил для порядка рыжие щетинистые брови, но тоже посматривал по сторонам одобрительно, а в серых, глубоко посаженных глазах поблескивали искорки восторга. «Вот она Расея... Зашевелилась!» – внутренне улыбаясь, думал Киселев.
За околицей, до самого перелеска, расстилалось большое поле, усеянное какими-то закоптевшими буграми, из которых клубились сизые дымки, как будто под снегом по всему простору горела земля. А там подальше, в огороженном жердями огромном притоне, табунились косяки лошадей, над ними плавал в морозном воздухе туман. Справа стояли бесчисленные стога бурого сена, между дымящимися бугорками разъезжали на низкорослых, но сытых, исправных лошаденках люди в остроконечных шапках.
Небо было высокое, бледное. Солнце склонялось к закату.
– Тута-ка башкирцы кочуют, орда. Это их стойбище. Ишь, землянок да нор понарыли, чисто кроты! – пояснил старик Киселев.
– А где же казаки? – спросил Шванвич.
– А те, кои в чинах алибо по возрасту стары, в самых Бердах живут, в селенье, а молодежь-то по огородам, в банях да в сарайчиках, а то и в землянках, по-походному.
– А наши где?
– Сейчас дошагаем! Горе мое, ноги-то обманывают меня, гудут и гудут!
Путники свернули в прогон. Навстречу – казачья полсотня с пиками и со значками. Впереди – есаул. Усталые кони клубятся паром. В середке два всадника поддерживают с боков третьего, тот бессильно изогнулся в правую сторону, постанывает, ежится, голова упала на грудь. Сзади, на двух конях, раненые казаки, татары.
– Откудов, сынки? – невпопад полюбопытствовал Киселев.
– А ты ослеп, чего ли?.. – огрызнулись казаки. – Не со свадьбы жа... Покалеченных везем... Под крепость подступали, ошибка была.
Путники постояли, сочувственно поглядели им вслед, пошли дальше. Вскоре все трое остановились возле маленькой крайней избушки.
– А вот тута-ка и палаты ваши, – сказал Киселев.
На задах избы, на обширном, в десятину, огороде, работала вся гренадерская рота. Солдаты строили себе землянки, грелись у костров, курили трубки.
– Ну, как, кипит работка, молодцы? – спросил подошедший Шванвич.
– Кипит, ваше благородие! – с добростью ответили солдаты. – Еще денечек, и в тепле мы. Да крестьянство баню обещало нам сварганить. Тогды нам прямо рай!
Шванвич с Киселевым и Брусовым вошли в избу. Застекленное оконце промерзло, давало мало света. Присмотревшись, Шванвич заметил две деревянные кровати; на одной из них, на сенном тюфяке, лежал в мрачной задумчивости Волжинский.
– А кто же в этой избушке на курьих ножках жил? – спросил Шванвич. – Уж не Баба ли Яга?
– Никак нет, тут мужской пол жил, – ответил Киселев, стоя навытяжку. – Полячок один, фидерат прозывается, да казак, да офицер. Казак будто в полон попал, полячок в сшибке убит, а офицер повешен.
– За что офицер-то?
– Да чевой-то супротив государя провирался, – сказал Киселев, и глаза его стали злыми, – с изменой, известно, турусы разводить неча!
Волжинский при этих словах порывисто поднялся, накинул шубу и, хмурый, вышел. Шванвич, посмотрев вслед ему, сказал:
– Ты, Киселев, с нами будешь жить. Согласен?
– Ой, ваше благородие! – обрадовался старик. – Да с полным нашим удовольствием!
– Эх, черт! – воскликнул Шванвич. – Жаль, вещишки пришлось бросить в пути.
– Никак нет, ваше благородие, – и Фаддей Киселев выволок из-под кровати походный чемодан Шванвича. – Вы бросили, а мы с Ванькой Брусовым подобрали. Как можно... Вот и ключик, пожалте, ключик-то я нарочно отвязал да в карман сунул, а то кто его ведает, тут народ аховый.
Растроганный Шванвич крепко обнял старого гренадера. Ванька Брусов, получив разрешение, ушел. Старик затопил еще не остывшую печку, принес из чулана кислой капусты, бок баранины, сбросил старенький мундир, засучил рукава рубахи, стал готовить щи да кашу.
– Таперича заживем, вот как заживем, ваше благородие!
– Только долго ли жить-то доведется, – вздохнул Шванвич, разбирая свои вещи.
– Вот то-то и оно-то, – ответил Киселев, – никому знать не дадено, один Бог знает, правда ли верх возьмет, алибо опять кривда укрепится. Ох, грехи, грехи!..
– А что же ты правдой считаешь и что кривдой?
– Ах, ваше благородие, да ведь правда-то на мужицкой стороне, ведь вся Расея-то на мужике стоит, мужиком кормится. Алибо взять бусурманскую войну. Кто турку побеждает? Опять мужик!.. Эх вы, косточки мужицкие!.. Дюже мне жалко вас...
Шванвич внимательно вслушивался в грубоватый говор Киселева. Ему нравился этот простосердечный, услужливый старик. Да и сам Фаддей Киселев за дальнюю дорогу успел присмотреться к Шванвичу и полюбить его.
Шванвич с удовольствием раскладывал свои пожитки по кровати. Вот зеркальце, три куска пахучего мыла, бритва, ножницы, свечи, походный подсвечник, чай, сахар, иголки, нитки, белье и, главное, с десяток немецких и французских книг, купленных им в Петербурге. Вот они, ненаглядные!.. С ними можно коротать время, в часы душевной тоски они унесут его мысль в область фантазии чудесной... И он готов был целовать свои книги, как горячо любимую женщину.
Бритва! «Ну, уж нет, надежа-государь, хоть ты и пожаловал нас бородой, а я все же буду бриться!» – подумал он и провел ладонью по заросшей щетиной щеке.
– Вот я и толкую... Мужик натерпелся ой как! Ведь вы сами, ваше благородие, видели, как походом шли, – мужик все к царю да все к царю лататы дает, мужика таперича ничего не устрашит – ни розга, ни пуля. Уже раз заступник-царь объявился да посулил мужичку землю с волей, – мужик весь на дыбы поднимется, врагов зубами будет рвать... Миллионы их, мужиков-то!
– Толку мало в мужиках, – возразил Шванвич, приготовляясь бриться. – Вот армия придет с войны – государю, пожалуй, туго будет. Как полагаешь, Киселев?
– Вот то-то и оно-то. Войско-то у батюшки неахтительное. И порядку маловато; да и обучены, похоже, не Бог знат как... Ведь у государя все народ простой. Воевод, чтоб настоящих, нетути. А ему, батюшке, одному не разорваться стать. Вот, ваше благородие, – и Киселев, бросив мыть гречневую крупу, подошел вплотную к Шванвичу, – вот ежели б вы да и другие господа офицеры от всего чистого сердца взяли бы да и помогли наладить дело-то военное!.. Ежели офицерство поможет, дело-то крепко будет, а не поможет – карачун нам всем!.. Ваше благородие! Вот было бы добро-то!.. – Морщинистые щеки Киселева задергались, голос стал срываться. – Ваше благородие!.. Ведь один раз живем. Ты все знаешь, ты всю военную науку превзошел и на войне сражался... Уж ты прости меня, старика... Помоги, заступись, родной, за нас, сирых! – Старик, всхлипнув, неожиданно повалился молодому человеку в ноги.
– Что ты, Киселев! Да что ты, старый? – попятился изумленный Шванвич. – Встань!
– Не встану, ваше благородие! Пока слова твоего не услышу, не встану!
– Встань! – И Шванвич, смущенный, растроганный, принялся подымать гренадера. – Я всеми силами... что могу... Я ведь и сам... того... к простому люду... Я... понимаю, понимаю, старик!
Но Киселев, поднявшись и ничего не слушая, а только бормоча: «Ваше благородие, спасибо, ваше благородие!..» – схватился за голову и, шатаясь, как пьяный, вылез в одной рубахе на мороз. Он присел на крылечную ступеньку, сгорбился, взматывал головой, сморкался в рубаху и не переставая выборматывал: «Спасибо! Эх, вот спасибо-то!..»
За ним выскочил Шванвич:
– Киселев! Киселев! Да ты что?.. – и потащил старика в избу.