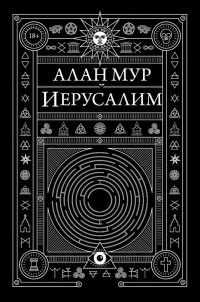Больше рецензий
31 января 2022 г. 23:38
2K
4.5 Синкретичность по Муру
РецензияНикакие слова не смогут передать, насколько искренне, от всего сердца и полно я ненавижу грубую ткань этой книги и с каким трепетом восхищаюсь её запутанным плетением. Никакие, но я всё-таки попробую подобрать. (Да, вот такие мы противоречивые.) Наверное, сравнение с тканью — слишком банальное и очевидное. Судя по моим внутренним ощущениям, «Иерусалим» можно сравнить с блюдом гениального повара, который сумел в одной тарелке уместить все известные человечеству вкусы. Персонажи меняются, лейтмотивы их жизней меняются, темп речи, метафоры, ценности — всё, что можно передать через текст, — постоянно меняется, ведь все люди разные. Кто-то ругается поэмами и балладами, кто-то ноет потоком сознания, кто-то блуждает по лабиринтам Нортгемптона, делая географические привязки своей жизни, кто-то почти нормальный, поэтому рассказывает о себе прозаически. Блюдо настолько богато разнообразными вкусами, что после него хочется блевать радугой и никак иначе. Даже если читать медленно, чувство пресыщения возникает очень быстро. (Впрочем, возможно, дело не в книге, и пятый бутерброд на ночь глядя был просто лишним.) Я не уверена, пытался ли Мур вместить в эту книгу ВСЁ, но кажется, пытался.
На второй взгляд, книга напоминает мне картину словами. Только художник такой же безумный и эпатажный, как Альма Уоррен (моя героиня~), мог бы написать на этих бесконечных белых страницах столь дикий рисунок обычными строго-чёрными буквами. Это тоже сугубо физическое, точнее сказать, визуальное впечатление, но, в отличие от стиля написания, сравнимого с гениальным блюдом, я хочу передать этой метафорой ощущение внутреннего пространства книги. Читать «Иерусалим» — это значит, стоять вплотную к холсту и разглядывать каждый отдельный мазок. Они все сделаны чёрной краской разной степени интенсивности, с разным нажимом, в разном направлении, разными кистями — и они накладываются друг на друга, создавая причудливый узор. Чем ближе чтение к концу, тем дальше удаётся отступить от полотна — и тем лучше виден общий замысел рисунка. Но чем лучше он виден, тем сильнее головокружение, потому что в ограниченное рамой пространство умещается четыре измерения — длина, ширина, глубина и время существуют одновременно. Бесконечное, казалось бы, множество персонажей, казалось бы, не связанных друг с другом, реальных и выдуманных, значительных и несущественных, и всё это пронизано путешествием во времени — читатель «телепортируется» из одной эпохи в другую, и автор даже не даёт времени перевести дух. Особенно тяжело в первой части (когда стоишь ещё слишком близко к картине), но, клянусь тростью моей бабушки, со второй появляется даже сквозной сюжет, который в итоге приводит всеобъемлющему пониманию мира в третьей части.
Или не приводит, тут как повезёт.
Кроме тошноты и головокружения есть ещё один побочный эффект — звон в ушах. Ещё одно банальное сравнение (после муровских метафор я особенно остро чувствую, насколько мои художественные тропы убоги), но ощущения от этой книги можно сравнить со звенящей тишиной. (Хотя если кто-то ожидал сравнение с кокофонией звуков, то мой выбор покажется неожиданным, что утешает). А как ещё передать то чувство пустоты, которое возникает, когда пытаешься выразить словами ощущения от прочитанного? Как минимум, я знаю пару тройку людей, которые испытали такой же эффект, и сейчас они наверняка одобрительно моргнули, прочитав эти строки. Я могла бы осилить полноценный анализ этой книги, будь у меня мозги получше или хотя бы после второго прочтения книги, но увы, увы, чтение всего лишь первое, и чтобы выдавить из себя хоть какие-то слова, я вынуждена прибегнуть к чувственному восприятию. Вкус, зрения, слух, а также обоняние и осязание — вы сможете это понять.
С первыми тремя всё понятно, а вот что насчёт обоняния, спросите вы. (Или не спросите, но так как вы плод моего воображения, то я хочу, чтобы спросили.) У меня есть только один подходящий образ, но чтобы не спугнуть вас, начну издалека. Если блюдо вам не нравится, вы можете его не есть; если перед глазами рябит, можно отвернуться или закрыть глаза; если в ушах вдруг начинает звенеть или устанавливается оглушающая тишина — можно отнестись к этому как к моменту покоя и насладиться или же отвлечься любыми звуками. Но что делать с носом, который безжалостно атакуют самые зловонные и самые благоуханные ароматы одновременно? Не дышать не получится. Если уж оказались на этой человеческой помойке, то от её аромата никуда не деться. (Ой, кажется, я увлеклась метафорой, пора возвращаться на грешную землю). Кажется, нет темы, которую бы автор не затронул: жизнь простых работяг, жизнь добропомощных людей, жизнь творцов и безумцев, лидеров и изгоев, а также немного политики, немного градообразования, немного социальных проблем, сны и видения, чертоги разума, серая повседневность, последствия войны — темы на любой вкус и цвет (в случае моей метафоры — и запах). Не все главы было одинаково интересно читать, от некоторых тем за версту смердело серьёзностью и скукой, хоть автор и пытался всё завернуть в шелестящую мистическую обёртку. Но каждый упомянутый в тексте безумец грел мою душеньку (Верналлы мои кумиры). Кому-то, наверное, понравится что-то другое. Но чтобы найти Тот Самый Аромат, придётся вдохнуть полной грудью это непередаваемое «амбрэ», иначе говоря, прочитать всю книгу. Испытание не для слабонервных. (Но мне понравилось, Альма, жди меня, я вернусь).
И есть ещё осязание — самый привычный способ восприятия, который невозможно отключить. Я бы предложила вам сейчас закрыть глаза, но тогда вы не сможете прочитать, какую фантазию я хочу вам предложить. Поэтому представьте, что вы закрываете глаза, протягиваете руку и проводите ладонью по какой-то поверхности. Вы не знаете, что это за предмет (допустим, он неохватен), но способны чуткими подушечками пальцев ощутить его текстуру: здесь щербинка, здесь ровные линии, здесь шершавый круг и так далее. Или, быть может, вы ощупываете языком то самое гениальное блюдо из начала рецензии, которое кто-то подбросил вам в рот, когда вы на секунду моргнули — представьте тот момент, когда вкусовые сосочки ешё не заработали на полную катушку и как будто онемели от беспардонной наглости незнакомца, — но язык, язык всё чувствует. Представили? И знаете, к чему я веду эту длинную и бессмысленно противную метафору? К впечатлению, которое осталось у меня от стилистической «текстуры» книги — кажется, Мур не пожалел сил и впихнул в текст всех известных британских авторов. Пока читаешь, то и дело возникает, что ты где-то подобное уже читал, но это нечто совершенно новое, не то, что было 50 страниц назад. Я далеко не всё опознала, но мне почему-то сразу пришли в голову Иен Бэнкс, Джефф Нун (потому что я недавно их читала), а вот следы Энид Блайтон я бы без подсказки не разглядела (хотя её тоже недавно читала), и прочая-прочая. Совершенно разные жанры — абсурдные, фантастические или реалистичные. Хотя я начала свой отзыв со слов о том, сколь разнообразными на вкус были разные куски текста, там я всё такие подразумевала способ повествования, способ построения истории. Здесь же я хотела заострить внимание на постмодернистской сочной текстуре текста, ведь «Иерусалим» — это неочевидная книга для тех, кто любит книги.
Эту книгу за многое можно полюбить, но почему-то первой приходит ненависть. А вместе с ней тошнота, головокружение, звенящая тишина, обонятельные муки. Сгладить впечатления способны только нежнейшие и чуткие прикосновения к тексту. И если достаточно долго заниматься подобного рода интеллектуальными извращениями с книгой, в конце концов, она обязательно полюбится.
(ДП, бонус января)