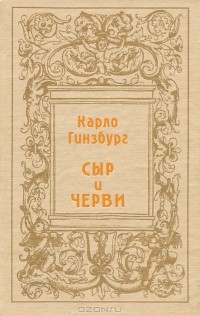Больше рецензий
23 мая 2020 г. 16:04
1K
4 История жизни «обычного фриульского мельника» или насколько значима микроистория
РецензияМеня сильно заинтересовала книга Карло Гинзбурга «Сыр и черви», притом по нескольким причинам. В первую очередь из-за уникального содержания: не такое уж большое число книг предоставляет какую-либо реальную информацию о жизни низших сословий времён Ренессанса. Однако тут сам Гинзбург предостерегает читателя, говоря о том, что большинство свидетельств крестьянской культуры либо были утрачены, либо были как-то образом искажены. Второй причиной для меня стал интерес к конкретному периоду времени, в котором проживал главный герой книги - Меноккио, а также интерес к культуре простолюдинов, о которой у меня, в общем-то, почти не было никакого представления. И ведь именно по этой причине Карло Гинзбург и принялся за написание этой книги. Микроистория, по его мнению, играет немаловажную роль в выявлении доминирующих идей и тенденций в обществе. Ну и последней, но не менее важной, причиной стало то, что Гинзбургом преимущественно описывалась религиозная и мировоззренческая составляющая культуры Меноккио, что лично для меня всегда являлось одной из интереснейших тем.
Книга Карло Гинзбурга начинается с длинного, но информативного и необходимого вступления. Необходимо оно, очевидно, для введения читателя в курс дела, ведь книга с крайне большой вероятностью будет непривычна, так как Гинзбург один из первых, кто решился рассказать об истории не великих и знаменитых деятелей, а представителей низших сословий, чем по сути заложил фундамент микроистории. Как я уже говорил, абсолютному большинству читателей будет в новинку такой подход, ведь должного представления о культуре народа того времени не имеет практически никто. И тем не менее, хотя Гинзбург и считается основоположником микроистории, нельзя не упомянуть школу «Анналов», концепция которой имела некоторые сходства с микроисторией Гинзбурга. В первую очередь, и Гинзбург, и представители школы «Анналов» сделали историю более социально ориентированной. Однако микроистория двинулась ещё дальше, выделив из социума небольшие группы, и таким образом открыла до этого практически неизвестный истории мир. Сам Гинзбург пишет об этом так:
«Историков еще совсем недавно можно было упрекать в нежелании заниматься чем-либо, кроме деяний царствующих особ. Сейчас это уже не так. Все чаще они обращаются к тому, что их предшественники замалчивали, отодвигали в сторону или попросту не желали знать. «Кто построил семивратные Фивы?» – спрашивал «рабочий читатель» Брехта. Источники ничего не говорят об этих безымянных строителях, но вопрос остается».
Вдобавок к вышесказанному одним из принципов школы «Анналов» являлась так называемая «Тотальная» история. Суть её в том, что она изучает все формы активности человека в совокупности: политику, экономику и культуру. Тем самым представители школы пытались преодолеть барьеры между духовным и материальным миром, изучая взаимное влияние друг на друга разных сторон человеческой жизни. Карло Гинзбург в своей книге тоже рассматривает жизнь фриульского мельника с разных сторон, говоря как и о культурной её составляющей - прочитанных книгах, и о социальной - взаимоотношении с другими представителями различных сословий, и об экономической, хотя конкретно о ней известно довольно немного.
Гинзбург посчитал необходимым максимально подробно объяснить, почему же вообще отдельно взятый мельник Доменико Сканделла достоин быть объектом исследования целой книги. При этом он критикует некоторые исследования на схожую с его темой, авторами которых были Р. Мандру и Ж. Боллем. Мандру, по мнению Гинзбурга, совершил ошибку, когда неумышленно исследовал не «культуру, созданную народом», а «культуру, навязанную народу», из-за чего пришел, по мнению Гинзбурга, к весьма поспешному выводу: «Литература ухода от действительности», как называл её сам Мандру, - литература «коробейников», до тех пор практически не изучавшаяся: дешевые книги, вроде альманахов, песенников и различных сборников рассказов о чудесах, изданные «как Бог на душу положит». По его мнению в течении длительного времени она уводила своих читателей от понимания действительности: собственного социального и экономического положения, политической ситуации в целом. После этого Мандру без какого-либо логического перехода заявляет о том, что таковая литература являлась основополагающей в то время и прямо отражает ситуацию, творившуюся тогда среди «угнетаемых классов», тем самым он лишает крестьян хоть какой-либо значимой роли в культурной деятельности. Однако, как говорит Гинзбург: «Нельзя полностью отождествлять «культуру, созданную народом» и «культуру, навязанную народу»». Но при всех своих недоразумениях, именно тот путь, который выбрал Мандру для обхода препятствий, связанных с изучением устной культуры, Гинзбург посчитал отправной точкой своего исследования. Гинзбург отмечает, что на тот же путь встала «в простоте души» и Ж. Боллем. Уже упомянутую литературу «коробейников» она восприняла как прямое отражение культуры народа «во всей её самобытности и автономности, со всем её религиозным пафосом», что Гинзбург посчитал неверным, потому что исследовательница за народную литературу приняла «литературу, предназначенную для народа», не выходя при этом из-за тех культурных границ, которые установил господствующий класс. Однако был и исследователь, чей вклад Гинзбург оценил весьма положительно. Им стал никто иной, как русский философ М. М. Бахтин, а именно - его труд под название «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса», на которую Гинзбург довольно часто ссылается в своей работе. Крайне схожа и поставленная Гинзбургом проблема исследования «культуры угнетенных классов». Он, как и Бахтин, не отрицает взаимное влияние культуры народа и культуры элиты, однако же подчёркивает самобытность этой самой «культуры угнетенных классов», построенной на фольклорно-мифологической традиции древности со всеми присущими ей идеями. И всё же одно существенное обстоятельство не устраивает Гинзбурга в «превосходной книге Бахтина»: персонажи народной культуры у Бахтина говорили исключительно языком Рабле, то есть имелся некий посредник перед восприятием культуры, которого, по мнению Гинзбурга, быть не должно. И действительно, сам Гинзбург обращается к народной культуре в книге «Сыр и черви» напрямую, через материал инквизиционного процесса фриульского мельника по прозвищу Меноккио.
Кто же такой этот Меноккио? Почему именно ему посвящена эта книга? Доменико Сканделла, он же Меноккио, - вроде бы обычный мельник из фриульской Италии, является, однако, по истине уникальным случаем. Обладая в своём распоряжении чуть более чем десятком книг, не имея должного образования и больших связей с привилегированной частью населения, Меноккио собственным умом дошел до крайне любопытных идей. Он задумывался о вещах, напрямую не связанных с его жизнью, что для тех времен было несвойственно людям из низших слоёв населения. Но тут встаёт вопрос: откуда же брались эти самые идеи, ведь не могли же они взяться с пустого места? Вероятно первое, о чём подумает читатель - это те немногочисленные книги, которые имелись у Доменико. Но Гинзбурга этот ответ не устраивает. Он отмечает слишком сильное различие между самим текстом и тем, что из него выносит Меноккио, разрыв слишком очевидный, так что его видение мира никак не может быть объяснено лишь им прочтенными книгами. Тогда что же остаётся? Ответ Гинзбурга - устная культурная традиция, а также идеи, циркулировавшие в то время среди инакомыслящих гуманистов, вроде идей веротерпимости и отмены диктатуры католической церкви.
В течение всего повествования читателю откроется множество различных противозаконных и неклассических для той эпохи идей Меноккио. Равенство всех религий перед Богом, происхождение мира и его организация, угнетающая политика церкви - все эти далеко не ортодоксальные мысли не могли не привлечь внимание священной инквизиции. При этом, как ни странно, Меноккио погубили не сами, в каком-то смысле революционные, идеи, а его неудержимое желание высказаться и, возможно, распространить свои убеждения. Он без намёков на осторожность говорил всё что думает инквизиторам и судьям, и, более того, заверял их о том, что желает излить все свои мысли прямо перед наиболее высокопоставленными лицами:
«…я говорил, что, доведись мне повидать папу или короля или князя, я бы много чего сказал, и пусть меня потом хоть расказнят, мне это безразлично».
По итогам первого расследования Меноккио приговорили к пожизненному заключению, из которого он вскоре, однако, вышел. После этого он зажил вполне нормальной жизнью, но Сканделла не смог долго удерживать своего истинного «я» и принялся вновь обсуждать запрещенные темы, за что поплатился жизнью, ведь после второго расследования его приговорили к смертной казни через сожжение, вскоре после чего приговор был приведён в действие.
И всё же многие вещи в книге остались лично меня под вопросом. Например, сам Гинзбург утверждал, что большинство источников крестьянской культуры либо не сохранилось, либо же были изменены настолько, что не проливают никакого света на истинную культуру простого народа. Так почему же можно считать достоверным источник в виде записей процесса инквизиции? Ведь церковь всеми силами пыталась сохранить власть, так что все записи могли подделываться таким образом, как было удобно самой церкви. Также довольно странным мне показалось, что буквально на протяжении всей книги автор указывает на уникальность случая Меноккио, которая скорее указывает на возможную несостоятельность исследования: следствие над ним велось в разы дольше, чем над остальными, а идеи его коренным образом отличались от идей большинства крестьян, что мы видим по настроению в его деревне, ведь абсолютное большинство односельчан ополчились против него во время суда. Считаю необходимым отметить, что Гинзбург лишь предполагает существование достаточно большого числа людей, похожих на Меноккио, но никаких доказательств, кроме буквально нескольких отдаленно напоминающих данный случаев, не приводит. Так почему же в таком случае изучался Меноккио, а не более подходящий под типичный образ представитель «угнетенного класса» с его, может и менее привлекательными, идеями? Невозможно не признать, что в Доменико всё ещё оставалось многое «от народа»: он оставался членом крестьянской общины, другом для односельчан и даже был избран приходским старостой, что только подтверждает его близость к народу. Но слишком уж разительно отличался он от остальных представителей обычного люда: его мировоззрение, способность абстрактно мыслить, безостановочное стремление задумываться обо всём и вся - всё эти черты, как мне кажется, означают лишь то, что Меноккио не может рассматриваться как «обычный» фриульский мельник. Но тут очень сложно говорить наверняка, для этого необходимо целое отдельное исследование, коего, к моему превеликому сожалению, я пока что не обнаружил. Итого, как бы ни старался Гинзбург предоставить максимально точную информацию, всё же есть веские поводы сомневаться хотя бы из-за отсутствия серьёзного доказательства существования значительного числа людей, схожих с Доменико Сканделлой.
И тем не менее, каким бы неправильным лично мне ни казалось рассмотрение такого, возможно чуть ли не единичного случая, есть основания полагать, что в эпоху Ренессанса было достаточное множество людей, подобных Меноккио: с отчасти самобытной культурой; со стремлением познавать мир вокруг себя своим собственно умом, а не без раздумий поглощать информацию, навеянную высшими классами; с постоянной гонкой за новыми идеями; с грёзами о новом лучшем мире; с желанием не стоять на месте и постоянно совершенствоваться. Но даже если это не так, книга Гинзбурга в любом случае имеет крайне высокую ценность для истории, ведь она является неким начальным пунктом для потенциальных будущих исследований важнейшей составляющей этой науки под непривычным для неё углом, которым нельзя пренебрегать: не из под пера правящего класса, а глазами обычного народа.