Больше рецензий
28 ноября 2020 г. 19:33
842
3 «Дети Арбата», упакованные в модернизм
РецензияВ 2000 году писать так, словно Фолкнер и Беккет еще не садились за письменный стол? Будучи не неофитом, который только ищет свою интонацию, а маститым литератором – автором документальных романов о революционерах? Смело. Но как модернизм не отказывается от классического наследия, а переосмысляет его, так Давыдов строит свой «Бестселлер» на привычном материале, смещая, правда, акценты и предлагая интерпретации в духе поздних 1980-х (то есть и интенционально роман анахроничен).
Первый, фабульный уровень – история жизни Владимира Бурцева, «санитара леса» русского революционного движения: он изобличил Азефа; в 1917 году отчаянно пытался привлечь к суду большевиков как германских шпионов – за что и поплатился, став первым политическим заключенным новой России; в эмиграции занимался проблемой подлинности «Протоколов сионских мудрецов». Сюжеты затасканные, но Давыдов настаивает на абсолютной документальности своего текста: архивы отменяют домысел и держат вымысел на поводке реальности. Насчет абсолютности я бы поспорила: найдись хоть где-нибудь документальные подтверждения связей Сталина с Охранкой, о которых Давыдов пишет много и зло, это стало бы архивной сенсацией века. А пока автор экстраполирует и реконструирует.
На страницах романа отметились все мало-мальски известные персонажи революционного движения, от Веры Фигнер до – да того же Сталина, его много. Малиновский, Рачковский, Головинский, Комиссаров – в книге о предателях и их боссах никак не обойтись без Иуды из Кариота. Как и без «Поцелуя Иуды» Джотто на обложке книги. Как и без философических рассуждений об экзистенциальном выборе: Иуда был, но был ли он иудой? (справедливости ради, такое название дал своей книжке-оправданию Евно Азеф).
Второй уровень романа – метатекст, параллельное повествование о том, как и из чего делался «Бестселлер». Ссылки на архивы перемежаются цитатами, рассказы о встречах с потомками героев романа – апелляциями к великим предшественникам.
На третьем уровне – очень личная история: события конца XIX–начала XX века Давыдов разбавляет, стык в стык, автобиографическими эссе, по большей части из лагерного опыта, – трагически-банальная судьба человека, имевшего несчастье родиться в России в 1924 году.
Все еще мало? Тогда добавим принципиально нелинейное повествование, метризированную прозу, стилистические кунштюки и ерничество, переходящее в скоморошество. Цитата очень длинная, но в ней – квинтэссенция романа:
Солдаты, побатальонно маршируя, умертвили плац. Потом в хрусталь апреля был врезан черный эшафот. И на его платформе палач убил цареубийц. Бурцев, питерский студент, в толпе услышал: «Так им, чертям, и надо». А рядом в длинном ветре протянулось грустно: «Не уезжай ты, мой голубчик…» – романс, любимый и Желябовым, убийцей из крестьян, и убиенным государем, освободителем крестьян… Потом на месте виселиц возникла карусель. Ее построили подобьем парохода. Народу привалило ничуть не меньше, чем на казнь. Пришел и Бурцев– поглядеть, как эшафот, сменившись каруселью, способствует движению к свободе… Тальянки грянули врастяжку, громада двинулась враскачку, народ кричал «ура»… Ах, карусель ты, карусель, гармошка, плаха, плац. Гремучие кар-кар, гар-гар. А «ц», приклацнув, рождает эхо: церва-а-а-а, что есть краситель натуральный – в желтый цвет гауптвахт, смирительных домов, махров тумана и навозной жижи.
Один мой приятель, страстный поклонник оперы, терпеть не может балет: «Если тебе есть что сказать, то открой рот и спой, а не теребонькай ножками». Давыдову безусловно есть что сказать, и револьтады у него мощные, и антраша стремительные, но я постоянно ловила себя на том, что с гораздо большим удовольствием прочитала бы роман о Бурцеве и мемуарное былое-и-думы отдельно, как самостоятельные книги. Здесь же все сплавлено-стиснуто намертво, не разъединить. Вот только не затягивает: и дыхания автору не хватило, и игры с формой подвели.
Так что не удивлена, что я первая, кто на ЛЛ отметил эту книгу прочитанной.

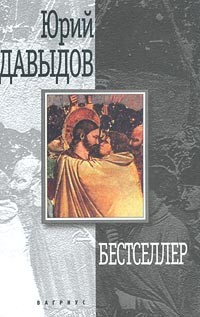
Комментарии
Читал когда-то давно его "Глухую пору листопада" и исторические очерки. Очень впечатляла тщательная проработка исторических фактов, но стиль и изложение казались слишком суховатыми и очень удивился такой игре с формой в этом романе. Может и почитаю.
Забавно, что именно "Листопад" я просматривала, чтобы проверить: неужели так же писал в 70-е? Конечно, нет, совсем другой стиль. И заметно, что в "Бестселлере" Давыдов неорганичен, пытается оригинальничать, но это надуманное, а не врожденная манера. Мало того, если первая половина книги практически вся в рифму, то потом он сдувается и начинается совсем маловразумительное бормотание.
А можно примеры, где оригинальничание врожденное? Не считая Пелевина.
Из наших - Андрей Белый, "Петербург". По-другому он, мне кажется, и не разговаривал ))
А Пелевин, на мой взляд, как раз "из головы". Очень талантливая, но поза.
А я Белого и не читал, мда ... Надо как-нибудь собраться с силами. )