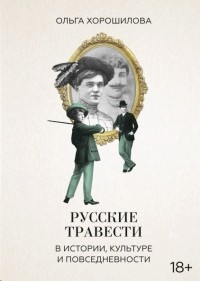Больше рецензий
3 мая 2021 г. 20:32
229
3 Очень важный материал с проблемным изложением
РецензияTL;DR: невероятно интересный и важный исторический материал с крупными недостатками в подаче.
О поэтессе Сапфо вы наверняка слышали, и она к теме этой книги имеет разве что отдалённое отношение, но есть у неё одно стихотворение, строка которого разошлась по англоязычным интернетам, и эта-то строка бесконечно релевантна для темы книги и ЛГБТ-истории в принципе. Вы можете найти это стихотворение под названием Six Fragments for Atthis; в русском переводе ему, кажется, соответствует “Было время - тебя, о Аттида, любила я”, если я ничего не путаю, но там нужной мне строки в таком виде нет (о, эти трудности перевода с древнегреческого, я так полагаю). Строка такая: ‘Someone, I tell you, will remember us, even in another time.’ (tr. Sherod Santos)
Про любых представителей ЛГБТ-сообщества бытует мнение о том, что это всё мода новая, непонятная, и раньше уж такого не было (ну или по крайней мере на святой земле русской, колыбели традиционных ценностей — вероятно, вы все встречали если не в реальности, то в интернете такую риторику). Это, разумеется, не так. Были всегда, и вот, в “другое время”, пока одни притворяются, что никогда такого не было или упорно игнорируют историческую реальность, другие, в т.ч. Ольга Хорошилова, вспоминают.
С российской ЛГБТ-историей в целом и историей трансгендерных людей в России в частности мы (как абстрактное российское общество) знакомы печально мало, даже те из нас, кто является ЛГБТ или поддерживает ЛГБТ. А ведь это история важная, часто замалчиваемая, богатая.
Ольга Хорошилова и берётся составить в своей книге обзор этой истории, и уже один лишь этот факт ценен сам по себе. В книге представлено множество материала: как подробные описания конкретных исторических личностей (Шарль д’Эон, Анна Голицына, джентльмен Джек, Макс де Морни, Вера/Сергей Гедройц) и ситуаций (мужская свадьба на квартире Александра Мишеля, жутковатая история про культ Дмитрия Шульца, женский батальон смерти Марии Бочкаревой), так и множество фотографий из авторского архива. От фотографий этих становится как-то невероятно трогательно: стриженые доброволицы женского батальона смерти, военнопленные (из офицеров, конечно, рядовых к такому не допускали) в женских костюмах к лагерной постановке, женщина в роли Вани из “Жизни за царя”, танцовщик Икар в образе Анны Павловой, Макс де Морни и Колетт (может быть, вы слышали про этот фильм с Кирой Найтли), “ухарки”, секс-работники и работницы, мужская свадьба — все в чудных костюмах, и (мало относящееся к теме как артистов травести, так и трансгендерных людей, но мы всё простим) фото двух мужчин-служащих ОГПУ с посланием на обратной стороне. Вот она история, вот они люди, такие же, может быть, как и ты, читатель (цисгендерный читатель сей рецензии, не спеши падать в обморок или потрясать кулаком; впрочем, такой субъект, наверное, не пойдёт читать отзывы на эту книгу), вот они были всегда — мне кажется, в этом знании уже есть какая-то невероятная сила. Вставляйте цитату из Сапфо. В общем, проделана достойная историческая работа, собрано множество интересных случаев.
А источники-то какие! Информацию про ту самую мужскую свадьбу г-жа Хорошилова вытаскивала из полицейских архивов (потому что всех участников арестовали; тут целая история, которую можно прочитать в главе 15). Информацию о трансгендерных мужчинах для последней главы авторка добывала, видимо, из записей советской психиатрии. Настолько вот ЛГБТ-люди маргинализованы, что историю их добываешь либо от полиции, либо от психиатров. Есть, конечно, и множественные воспоминания богатых людей (эпически зашифрованный дневник джентльмена Джека тому пример), но всё-таки важно учитывать и сословную или классовую специфику. Сколько же их было, обыкновенных, бедных ЛГБТ-людей, которые на страницах истории попросту не зафиксировались… это же вовсе не значит, что их никогда и не было.
“Ну замечательно, почему же тогда не пять звёзд?” — вполне резонный вопрос. И вот почему: подача у этого бесценного исторического материала хромает на обе ноги.
Начнём с употребляемых авторкой терминов. Сложно поспорить с тем, что принятые в современном академическом дискурсе или в повседневной речи выражения и идентичности зачастую слабо натягиваются на исторических личностей. Слова “гомосексуальность”, “бисексуальность”, “трансгендерность” возникли сравнительно недавно, и их определения, в общем-то, фиксированными с момента их вхождения в общее употребление не остались. Тем не менее, решение авторки использовать для всего термин “травести” довольно спорное. Ещё более спорное — решение обозначать трансгендерных людей выражением “травести поневоле“. Под этот зонтичный термин авторка, кажется, отправила и бинарных трансгендерных людей, и небинарных, заодно смешав, мне кажется, в своём предисловии ко второй части эти два понятия.
Разделение на части, кстати, по-моему, весьма условное. Задумано оно так, что первая часть будет посвящена травести-артистам и различным ситуациям, в которых люди переодевались в одежду “противоположного пола”, не будучи при этом трансгендерными людьми. Первая часть бодро поделена тематически: при дворе, на войне, в литературе, на сцене и в кино, в моде, в шутку. Хорошее разделение, логичное и более-менее цельное. Вторая часть должна была быть посвящена трансгендерным людям, и каждая глава в ней скорее рассказывает про отдельную личность. Вот тут-то читатель и понимает, что разделение какое-то странное, и половина героев второй части могла бы оказаться и в первой и наоборот. Гедройц и “старуха скалы” могли бы соседствовать в любой из частей, главе про секс-работников скорее место в первой части, рассказ про свадьбу тоже не то чтобы посвящён непосредственно трансгендерности или тому, что авторка обозвала “травести поневоле”.
В качестве ещё одного недостатка хотелось бы выделить… слушайте, я не знаю, конечно, насколько это на самом деле недостаток. Может быть, это такой канон жанра, а я не знаю, я честно обычно читаю художку или неисторический нон-фикшн. Но мне очень зацепила глаз этакая фикционализация (не уверена, насколько это слово русского языка, извините) многих личностей. Глава про Гиппиус — самый яркий пример подобного. Кажется мне, что заявления из области: “Она носила мальчишеские вещи играючи, полушутя, больше для внешнего эффекта и вожделевших её художников, чем для себя самой” и прочее про то, как она “исповедовала бесполость”, крайне смелые. И высказанные с довольно циснормативной позиции. Вы бы хоть привели ссылки на слова самой Гиппиус или воспоминания её современников, подтверждающие ваши утверждения — или такое не принято в подобном жанре? В конце есть список архивов и избранная библиография, но там вроде ничего нет про Гиппиус… Я бы предпочла более сухое и фактическое повествование такому вот заигрыванию с читателем. Более того, я бы предпочла, чтобы многое из описанного не было поднесено как забавный курьёз для цисгетеросексуального читателя. Я охотно верю в лучшее в авторке, но в первой части слишком много вот этого приглашения читателя посмеяться, мол, посмотрите, какой нелепый случай… происходит это не от того, что г-жа Хорошилова действительно считает это смешным (я надеюсь), а от того, что она, описывая какое-либо событие, часто даёт к этому комментарий в стиле наблюдателя-современника. Благодаря этому в текст книги зачастую просачивается слово “противоестественный” по отношению к “наклонностям” её героев. Нет, я вовсе не говорю, что сама г-жа Хорошилова их таковыми считает — а всё-таки оно там есть. И режет глаз.
Такая коллекция “курьёзных случаев” с местами довольно неосторожным, на мой взгляд, языком, насторожила меня ещё в первой части, но вот предположить в то, что будет ждать меня во второй, даже она не помогла. Я могу продраться через неловкий термин “травести поневоле”, через режущие глаз словосочетания “голубая любовь” и “розовая любовь” (неужели кто-то так ещё говорит в 2021 году?), постоянное употребление слова “инакочувствующие” и словосочетания “любовь, что не смеет назвать себя” (a love that dare not speak its name, цитата из стихотворения Two Loves Альфреда Дугласа, любовника Оскара Уайльда) — однажды даже в одном предложении. Я могу понять, что да, тяжело, а порой и невозможно, как я упоминала выше, натягивать современные термины на исторических личностей. Слово “гей” в книге употреблено ровно один раз (по крайней мере, в основном повествовании — если было где-то в предисловии, я уже забыла). Слово “лесбиянка”... господи, лучше бы г-жа Хорошилова его бы не употребляла. Глава 9, “Джентльмен Джек в России”, секция “Первая современна лесбиянка” немедленно встречает читателя следующим: “Эпитет слишком тяжёлый, грубый для благовоспитанной дамы эпохи туманного романтизма, но Листер он к лицу”. В этот момент челюсть (прогрессивного, адекватного, возможно, и самого представителя ЛГБТ-сообщества) читателя падает на пол с громким стуком. Какой ещё тяжёлый и грубый эпитет? Окститесь, в 2021-то году такое издавать… Но больше всего от г-жи Хорошиловой досталось транс-мужчинам. Глава 10, “Русский дядюшка Макс”, повествует про Макса де Морни, выбравшего себе такое имя и ставшего жить как мужчина в 40 лет. Г-жа Хорошилова предпочитает звать его Мисси, как его звали в детстве в семье, но иногда снисходит и до “дядюшка Макс“, а вот использовать мужской род упорно отказывается, что приводит к перлам вроде: “по уши влюблённая “дядюшка Макс” исполняла её капризы”. Смотрите, я бесплатно перепишу это предложение так, чтобы оно не резало ничей глаз и, что важнее, ничьи чувства: “по уши влюблённый Макс исполнял её капризы”. Ничего сложного, не так ли… дядюшка Макс готовит нас к последней главе книги, этому гвоздю в крышку гроба и причине, с которой я снизила оценку с четырёх звёзд до трёх. Глава называется “Трансвеститки” (в кавычках) — видимо, таким термином советская психиатрия окрестила AFAB трансгедерных мужчин. Ну хорошо, но зачем же г-жа Хорошилова обращается с этими людьми примерно так же, как та самая злосчастная психиатрия, и решительно настаивает на тем, чтобы называть их в роде, соответствующем приписанному им при рождении гендеру? “Евгений Фёдорович мужественно приняла вызов”, “Евгений Фёдорович искренне написала”, “Врач Альфред Штесс с пациенткой Александром Павловичем”, “Александр Павлович с юности считала себя мальчишкой”. Понимаете, не хочется обвинять г-жу Хорошилову в неуважении к трансгендерным людям, всё-таки столько материала она собрала, целую книгу написала… но не называть транс-мужчин мужчинами — что это, если не неуважение? Может быть, невежество? Но как же можно так изучить тему и по-прежнему его сохранить… Оставим в стороне вопрос эстетики подобных предложений, то, как коряво они звучат. Главное тут не это. Главное тут то, что лёгким условным “росчерком пера”, г-жа Хорошилова, скорее всего, не имея в виду ничего злого, чуть ли не потопталась на этих людях, проблемам которых она сочувствует… Спасибо, что написала, да, очень важно, но то, как именно написала, тоже очень важно. И это должно критиковаться. Прогресс наш будет двигаться семисантиметровыми шагами, если мы будем такое прощать, даже когда оно не со зла. Давайте уж всё-таки требовать от наших авторов быть тактичнее, чувствительнее, лучше. Раз они столько усилий вложили в исследовательскую часть, они должны справиться и с этим.
В главе 9 г-жа Хорошилова анонсирует свой следующий труд, посвящённый джентльмену Джеку. Я не тешу себя надеждой, что г-жа Хорошилова прочитает этот отзыв, но хочется искренне пожелать ей никогда больше не писать про “тяжёлый и грубый эпитет лесбиянка” и избавиться от вышеперечисленных недостатков. А исторический материал она, конечно, исследовать умеет, и материал она выбирает очень важный. Такой, что да, сквозь все недостатки всё равно дочитаешь. Вот они, такие же люди, как ты или твои знакомые, вот они жили… Someone will remember them, even in another time.