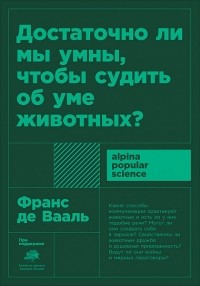Больше рецензий
21 июля 2021 г. 16:23
668
3
Рецензия«Самцы каракатиц, ухаживающие за самками, способны ввести соперников в заблуждение, что ничего особенного не происходит. Самец приобретает характерную для самки окраску со стороны тела, обращенной к сопернику, так что последний уверен, что видит самку. Но тот же самец сохраняет собственную окраску на стороне тела, обращенной к самке, чтобы не утратить ее интерес. Таким образом, он ухаживает за ней тайком.»
Дельфины дают себе имена и узнают друг друга по пятнам, а сойки, кажется, понимают как работает пространственно-временной континуум. Касатки играют с едой — в смысле, с тюленями, а капуцины ратуют за равенство зарплат. Слоны узнают себя в зеркале, а вороны очень — очень! — злопамятны. Но все это совершенно неточно, потому что научные наблюдения за животными, и этология в частности, это еще совсем молодые науки, которые относительно недавно были подвержены таким узколобым предубеждениям, что Франс де Вааль написал об этом целую книгу.
«Так, когда мы говорим, что у муравьев есть «королева», «солдаты» и «рабы», — это всего лишь антропоморфные упрощения. Мы вкладываем в это не больше смысла, чем в женские имена, которые даем ураганам, или в проклятия, адресованные компьютеру, как будто он обладает свободой воли.»
И вот на сотой странице текста вы обнаруживаете себя внутри затянувшейся дискуссии, о существовании которой раньше даже не предполагали: оказывается что в науке изучения животных существует проблема антропоцентричности ученых, которые «дискриминируют» животных тем, что измеряют их линейкой человеческого интеллекта. Мне сложно судить о предвзятости авторской позиции, но Франс де Вааль настолько грамотно подает свое видение проблемы, что к концу первой же главы рядовой читатель готов однозначно отвечать на поставленный книгой вопрос: «достаточно ли мы умны чтобы судить об уме животных?» — нет, нет и еще раз нет!
И вот вы уже готовы подписаться под каждым словом автора — а впереди еще целых триста страниц доказательств и сухих логических цепочек, которые сверстаны, по большей части, скорее «научно», чем «популярно». И, да, редкими жемчужинами в тексте сверкают описания изобретательных экспериментов с животными, но их слишком мало, чтобы поддерживать интерес к остальному тексту, который в виду своей специфичности обращен не столько к массовому читателю, сколько к специалистам по работе с животными — и если вы относитесь к последним, то вас можно поздравить с великолепной книгой! Я же, будучи абсолютным профаном в теме, предпочел бы куда более концентрированную версию книги — книги, которая не тратит 80% слов на то, чтобы убедить меня занять позицию в вопросе, который меня совершенно не касается.
И другие фрагменты книги:
«Когда касатки замечают тюленя на льдине у побережья Антарктики, они перемещают льдину. Это требует больших усилий, но в результате льдина оказывается в открытом море. Затем четыре-пять касаток выстраиваются бок о бок в ряд. Действуя одновременно, как один огромный кит, они быстро плывут к льдине, создавая высокую волну, которая смывает несчастного тюленя с льдины. Мы не знаем, как касатки договариваются построиться в ряд или синхронизировать свои действия, но, видимо, они каким-то образом общаются друг с другом, прежде чем перейти в наступление. Непонятно также, зачем касатки делают это, потому что, наигравшись с тюленем, они часто отпускают его. Одного тюленя касатки даже посадили на другую льдину, видимо оставив до следующего раза.»
«Птицы, которые ни разу не были пойманы, узнавали маску грабителя спустя годы и все еще преследовали тех, кто ее носил. Вороны, должно быть, перенимали отрицательное отношение у своих товарищей, и в результате все вместе ополчились на отдельных людей. «Вороне вряд ли встретится дружелюбный ястреб, но с людьми все по-другому — их приходится воспринимать индивидуально, — пояснял Марзлоф. — Они действительно способны на это».»
«Террас опубликовал чрезвычайно скептическую статью об общении языком жестов с шимпанзе Нимом Шимпски, названным в честь американского лингвиста Ноама Хомски.»
«…до сих пор мне неизвестно никаких доказательств того, что язык служит основой мышления, кроме всеобщей в этом уверенности.»
«Вероятно, это началось со спора Платона и Диогена о самом кратком определении человека. Платон предположил, что это голое существо, передвигающееся на двух ногах. Это определение, однако, оказалось с дефектом, когда Диоген принес ощипанную домашнюю птицу и, отпустив ее, сказал: «Вот человек Платона». Тогда к определению было добавлено «с широкими ногтями».»
«Еще один пример — недавнее открытие, что мужчины-экспериментаторы, в отличие от женщин, вызывают у мышей такой стресс, что это отражается на их поведении. Точно такое же действие оказывает футболка, которую носил мужчина, помещенная в комнату с мышами. Так выяснили, что причиной стресса служит запах. Естественно, это означает, что исследования на мышах, проводимые мужчинами и женщинами, будут иметь разные результаты. Методологические детали значат много больше, чем мы можем себе представить, и это чрезвычайно важно, когда мы сравниваем разные виды.»