Больше рецензий
18 июля 2022 г. 11:09
673
2 Чтиво в духе Валишевского
РецензияТруайя А. Екатерина Великая: Роман / пер. с фр. О.Д. Чеховича. — М: Республика, Палимпсест, 1997. — 384 с., ил. — (Овеянные легендой).
Начну с выразительной цитаты из автобиографии автора, родившегося в Москве, но выросшего и сформировавшегося как личность в Париже:
Сначала я изменил национальность, затем — имя. Осталось ли ещё хоть что-нибудь подлинное во мне?
Правильный ответ: нет, не осталось. Зато он стал модным писателем, прожил много дольше, чем Лев Толстой, и успел наводнить французскую литературу, среди прочего, романизированными биографиями выдающихся русских писателей, а также некоторых правителей России. Не лишён интереса тот факт, что свои «царские» биографии он клепал, одну за одной, уже в старости, имея за плечами большой литературный опыт и значимые регалии (член Французской академии, лауреат Гонкуровской премии).
Биография Екатерины Великой, первая в ряду «царских»,написана в 1977 г., когда многоопытному автору было уже 66 лет. Конечно, он прекрасно понимал базовый запрос массовой читательской аудитории: нужен максимально «дружелюбный» текст, который можно проглатывать, не разжёвывая. Этой установке всё и подчинено. При этом книга отнюдь не является романом (вопреки подзаголовку первого русскоязычного издания, появившегося 20 лет спустя). Её трудно назвать даже «романизированной биографией»: скорее уж это «литературно-художественная биография», причём такой её подвид, где элемент беллетризации минимален.
Прежде всего, автор склонен восстанавливать ход мыслей персонажей (которые являются, все без исключения, историческими лицами). Не бойтесь, никаких внутренних монологов, просто кое-где брошены мимоходом фразы вроде следующей:
Мамаша всё ещё полагает, что в конце концов голова – это она, а Фикхен всего лишь пешка.(с. 18)
Кроме того, в подходящих случаях рукой мастера набрасывается пейзаж. Что может быть лучше для погружения читателя в атмосферу происходящего?
... сани остановились у крыльца Зимнего дворца. Полдень. Мороз и солнце, всё сверкает — от куполов церквей и до Невы, скованной льдом.(с. 21)
Иногда автор идёт дальше и рисует целые сценки, но во всех случаях они основываются на мемуарной литературе, а вовсе не являются плодом чистого вымысла.
Ну, и на хлёсткие характеристики этот автор мастак (см., например, как досталось от него состарившейся, но ещё жадной до плотских утех царице: с. 333, внизу).
В целом использование литературных приёмов в этой книге весьма деликатное. Так что же — получается, что перед нами исключительно добросовестный труд? Увы, ответ отрицательный. Попробую объяснить, что с этой книгой не так.
Главная беда в том, что автор — типичный борзописец: ему надо как можно скорее закончить работу над данной книгой, чтобы приступить к следующей. Времени на изучение источников нет, информация заимствуется из вторых и третьих рук (то есть эксплуатируются сочинения предшественников). Исключения единичны и достойны перечисления:
• французское издание любовных писем Екатерины Потёмкину (да, есть такое: французы же, понимать надо);
• поздние мемуары Екатерины II, доведённые лишь до 1758 г., когда ещё шло царствование Елизаветы Петровны (этот интереснейший текст нашим борзописцем выжат как лимон, на нём построены первые 2/5 книги);
• мемуары Станислава Понятовского;
• мемуары княгини Дашковой;
• мемуары Фридриха II;
• мемуары франкоязычного швейцарца Шарля Массона, некоторое время преуспевавшего на русской службе.
Кроме того, в одном случае при использовании донесения французского посла де Жюинье даётся курьёзная ссылка на какие-то загадочные «Архивы Министерства иностранных дел Франции» (если бы автор хоть раз побывал в каком-нибудь архиве, ссылка выглядела бы иначе).
Можно констатировать, что целые горы первичных материалов остались невостребованными (даже если говорить только о материалах опубликованных). Наш автор работал по упрощённой схеме, и понять его легко. Стоило ли копаться месяцами, скажем, в русских исторических журналах XIX века, где опубликована обширнейшая переписка Екатерины? Эта работа давно уже проделана другими лицами, выудившими из этого моря информации всё наиболее интересное; можно просто компилировать работы предшественников (что наш автор и делает). Но у такого подхода есть ряд уязвимых мест: во-первых, нет времени на проверку фактов; во-вторых, неизбежны искажения информации по принципу «испорченного телефона»; в-третьих, есть риск оказаться под чужим влиянием, идеологическим или стилистическим. Из этих трёх напастей наш автор, увы, не избежал ни одной. Приводимые им факты не всегда достоверны: число мелких ошибок, небрежностей и анахронизмов чрезмерно велико (серьёзные дефекты, впрочем, относительно редки, я укажу их ниже). А в самых удивительных преображениях некоторых событий прошлого виноват, конечно, «испорченный телефон». Именно из-за этого, я полагаю, автор заставил «турок-фанатиков» «неистово штурмовать» Кинбурн (с. 315), хотя в реальной истории русские их до стен крепости не допустили. Чуть ниже, через 8 строк, сообщается о разгроме турок Суворовым на Кинбурнской косе, то есть единое событие под пером Труайя раздваивается. С крепостями вообще беда: Густав III захватывает Нейшлот (с. 317), хотя в реальной истории развоевавшийся шведский король с этой жалкой крепостцой не справился. Ниже ещё интереснее: «Суворов берёт Измаил после трёх кровопролитных штурмов» (с. 324). Штурм был один; «три штурма» родились, конечно, из того факта, что атака велась тремя отрядами. Именно так и работает «испорченный телефон».
Не обошлось и без чужого влияния: мне представляется очевидным, что Анри Труайя (1911—2007) ориентировался на Казимира Валишевского (1849—1935), борзописца предыдущего поколения, в своё время тоже наводнившего французскую литературу третьесортными книгами на русские исторические сюжеты (и умершего аккурат в год литературного дебюта нашего автора). Можно сказать, что Труайя принял от Валишевского эстафету (и глубоко закономерно, что ни тот, ни другой не были этническими французами). В книге о Екатерине Труайя даёт 11 (!) подстраничных ссылок на Валишевского (а на прочих авторов — по одной, по две, самое большее — три). Впрочем, даже при отсутствии ссылок зависимость была бы очевидной: тот же размах пера, та же лёгкость в мыслях. Хорошо ещё, что Труайя не унаследовал патологическую русофобию Валишевского. Зато встречается немотивированная клевета на некоторых исторических лиц:
1. Французы Шетарди и Лесток безосновательно зачислены в любовники императрицы Елизаветы (с. 26). Эта государыня образцом нравственности не была, но с заграничными проходимцами не путалась.
2. Михаилу Илларионовичу Воронцову (1714—1767), канцлеру Петра III, приписывается измена: в ходе переворота 1762 г. он якобы перешёл на сторону Екатерины. В реальной истории канцлер отказался это сделать и был арестован. Присягу императрице-узурпаторше он принёс только после смерти законного государя.
3. Утверждается, что Екатерина приняла от депутатов Уложенной комиссии титул «Великая» (с. 195). В реальной истории она от этого титула решительно отказалась («не великая — о моих делах оставляю времени и потомкам беспристрастно судить»).
А вот самые яркие примеры болезненных фантазий автора (или некритичного заимствования болезненных фантазий предшественников):
«Фридрих II тайно предупреждает Екатерину, что, если когда-нибудь она задумает присоединить к России Польшу путём брака с будущим королём польским Станиславом Понятовским, она должна знать, что такой манёвр настроит против неё всю Европу» (с. 159—160). Я хорошо знаком с перепиской Фридриха и Екатерины; ничего подобного там нет.
Во время русско-турецкой войны «посланцы великого визиря подбивают мусульманские народности Урала и Прикаспия присоединяться к Пугачёву» (с. 227). Следствие по делу Пугачёва таких фактов не выявило.
А вот классическая «клюква»: в России, оказывается, был орден «Полярной звезды». И с географией есть проблемы: герои путешествуют какими-то странными зигзагами. Екатерина едет из Петербурга в Ригу по Курляндии (с. 175); Дидро на пути из Петербурга в Гаагу переправляется через Дунай (с. 222). Очень странные представления у автора о топографии Петербурга: Смольный институт представляется ему пристройкой к императорскому дворцу, и туда можно пройти просто через дверь (с. 186). Это он спутал, наверно, с Царскосельским лицеем, который является флигелем дворца и связан с ним переходом.
И, наконец, самое убедительное в моих глазах доказательство крайнего легкомыслия и поверхностности данного автора: Санкт-Петербургскую Императорскую академию наук и Императорскую Российскую академию он принимает за единое учреждение (с. 277). Тут встаёт вопрос, читал ли он мемуары Екатерины Романовны Дашковой, президента двух академий (ссылка на книгу ещё не доказывает знакомства с ней).
О ляпсусах переводчика писать не буду: они забавны, но немногочисленны. Перевод сравнительно доброкачественный, я могу указать много худшие.
Сожалею ли я, что потратил время на эту книгу? Нет. Было интересно, автор всё-таки талантлив как литератор. Только напрасно его издают у нас без развёрнутого комментария.

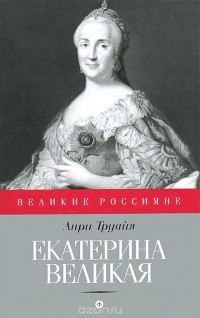

Комментарии
Вопрос, конечно, не по теме, но пользуюсь случаем, так сказать :)
Скажите, Андрей, а насколько можно доверять образу Екатерины в романе Пикуля "Фаворит"? Он (роман) мне в свое время очень понравился.
Я читал этот роман в 1988 г., когда его издали в "Роман-газете". О эпохе Екатерины я тогда знал только то, что написано в школьном учебнике. И с тех пор 34 года прошло. Поэтому сейчас не возьмусь оценивать, насколько удачен там образ Екатерины. Тогда мне роман понравился. Может быть, буду перечитывать.
кстати про Валишевского: есть у меня книга об Иване Грозном Валишевского, вот думаю читать её или нет. Вы читали?