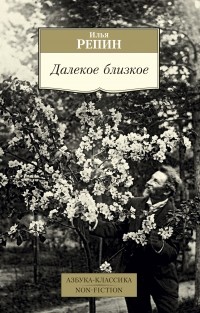Больше рецензий
27 ноября 2023 г. 20:48
171
4 ...твореньем заменив Творца
РецензияВербальный автопортрет большого художника на фоне эпохи. Написано, как все признают, талантливо, «литературно». Это – да. Язык классиков XIX века, описания, диалоги, драматизм сюжетов – все на высшем уровне. Говорят, он предварительно «обкатывал» свои истории на слушателях в Пенатах, и только потом записывал то, что «принималось» публикой. Артист, одним словом, художник во всем.
Что видно ясно, так это то, что Репин – человек увлекающийся и увлеченный. Причем, в этих увлечениях всегда велика роль других людей, под влияние которых он попадал. И буквально боготворил. Таков, например, Н.И. Крамской, таковы были «кумиры» в его доакадемической молодости, «увлекался» он и своими «собратьями по цеху», разными в разные периоды жизни. Но что характерно, все эти увлечения отдают какой-то поверхностностью. В детстве он, например, наслушавшись житий святых, решает сам «стать святым», много молится, «уединяется», но без всяких намеков на какую-то внутреннюю работу. Мать его была благочестива, но, кажется, из старообрядцев и не без суеверий и языческого магизма-мистицизма. Глубокой веры она ему явно не сумела привить, достаточно сказать, что многие евангельские сюжеты он начинает понимать уже после 20-ти, и опять под чужим влиянием (Крамского), в духе, разумеется, «ищущего прогрессизма».
Вот этот дух и довлел над ними, этими «народниками», «передвижниками», «артельщиками». Отметавших все старое, «косное», «классическое», как им казалось, «западное», но на самом деле слепо ведущихся на современные идеи, проникавшие в Россию с того самого «просвещенного Запада». Вряд ли они это понимали, были ведОмы, что называется, втемную. Ищут «новые мотивы» в народности, национально русском, а в самой глубинности, православности народа своего не понимают. О христианстве судят с позиций «прогрессизма» - глубоко западного по своему генезису и природе. Крамской – яркий тому пример. Да и сам Репин – восхищается и христианскими мотивами, и дарвинистскими, и все стремится найти новые формы и смыслы, отмежевываясь от заскорузлой академической «классики». Неоднократно, если не сказать красной нитью, проходит мысль о том, что художник – он в первую очередь именно художник, а не мыслитель. Неоднократно Репин сетует, особенно в истории о Н.Н.Ге, на то, что великие художники «порабощаются» публицистикой и литературой, вынуждаемые занимать общественную позицию и становясь философами. Он готов восхищаться художественным совершенством ничтожной детали, но пройдет мимо «великой идеи», поданной в несовершенной художественной форме. Более того, такая подача такой идеи работает против нее, опошляя и «заземляя». Миссией художника он считает служение красоте, которое многие разменивают, как он считает, на служение «морали», «нравственности», «добродетели» и науке. Даже «религиозно» обосновывает – Бог, мол, постоянно «творит» красоту, в том числе через художников, и в этом, дескать, путь к спасению мира (не дословно, как-то примерно так). С большим пиететом отзывается о «вере в Царство Божие на земле».
Что тут сказать? Ясно, что за этим не видно сколь-либо цельного православного мировоззрения. «Красота спасет мир» - это ОКОЛО, но не О православии. Отрицая и даже иронизируя над всякого рода попытками рассматривать искусство как воспитательный «инструмент», Репин как-то проходит мимо мысли, что красота – это не некая самодовлеющая сущность, а есть результат работы Творца. Он, конечно, признает, что человек – «Его творение», способное «подражать Ему и создавать по Его идеям вещи, требующие тонких искусных рук человека». Но дальше этого Репин не идет, и не понимает, что «создавать по Его идеям вещи» может лишь тот, кто чист пред Богом настолько, что способен усвоить от Него эту красоту и передать ее. Без уничижаемых Репиным как «анахронизмов» «нравственности, морали, добродетели» человек не может этого достигнуть, и тогда его «красото-творчество» оказывается замешано на страстях и, следовательно, на куче всяких идей, далеких от Бога и / или с Ним борющихся (что, в общем-то и видно из картин и Репина, и Крамского, и Ге, в которых они обращаются к религиозным темам). Они мнят постичь Бога, не отрекаясь от мiра, считая себя достаточно «просвещенными», чтобы не впадать в «темные пережитки», якобы сопровождающие путь к Богу, проповедуемый Церковью и принимаемые простым народом. Это, кстати, то, за что порицали «просвещенную интеллигенцию» такие столпы консервативной мысли, как, например, Лев Тихомиров: «Их „религия“ постоянно является как орудие земного благоустройства», вместо веры у них – «умствования», они ищут Бога не «чтобы стать тем, что указывает Бог», а чтобы закрепить и усилить свои желания, свои требования от жизни».
Вот и выходит, что не восславляя с чистым сердцем Творца в Его творении человек близоруко творит из творения идола, который в итоге заслоняет ему Творца. «Искусство для искусства» - этот любимый лозунг Репина так же недалек, как тот ослик, который радуется, что ему поклоняются, в том время как поклонение адресовано не ему, а Тому, Кто на нем восседает, въезжая по дороге в Иерусалим, устланной пальмовыми ветвями. Вот в этом поверхностность – не только Репина, но и всех тех персонажей его эпохи, кого он охватил в своих воспоминаниях.
Вот он – типичный путь русской интеллигенции 19 века (и продолжающийся в основной своей массе до сих пор), оторвавшейся от народа, от Бога, но мнящей себя выразителем «народности» и «рационализированной» религиозности. Толстой – квинтэссенция всего этого, недаром Репин вспоминает о нем с глубоким преклонением. Куда это пустозвонство завело, известно, 1917 год стал логическим завершением всех этих псевдонародных «исканий» и «богоизобретательства» (по Бердяеву), а интеллигенты отправились кто на эшафот, а кто в изгнание. Сам Репин умер на чужбине, так и не вернувшись из Финляндии в Россию.
В общем, личность, конечно, выдающаяся, но трагизм ее в том, что он в поисках Бога (а что это – стремление к гармонии красоты – как не поиск Бога?) попадает в область фантомов, суррогатов, идолов, которые к Богу не ведут, а от Него уводят. Можно приводить объяснения и оправдания, почему так, но факт остается фактом – вне Церкви (не раз он посмеивается над ней и ее служителями) всякий поиск обречен на тупики и лабиринты, в которых душа блуждает, зачастую в одном шаге до(от) Истины, шага покаяния и смиренномудрия. Гордыня берет свое.
Но, справедливости ради, говоря об «искусстве ради искусства», Репин не имеет в виду «базар декадентщины». Всевозможных «анархистов в живописи» он не жалует, обрушивая все свое красноречие на символистов и прочих «новаторов», не видя в них мастерства и эстетического чувства: «царство развязной бездарности», «символическая кабалистика», «открытые оргии разврата». Все-таки глубинно-религиозный здоровый дух жил в Репине, пусть и под спудом "ищущего прогрессизма". Сегодня пробиться этому духу в литературе и искусстве куда сложнее...