Больше рецензий
29 марта 2024 г. 13:13
164
3 Великий текстолог в роли популяризатора
РецензияЛихачёв Д.С. «Слово о полку Игореве»: Историко-литературный очерк. — М.: Наука, 1950. — 164 с., обл., ил. — Тираж 20.000 экз.
Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве»: Историко-литературный очерк. Издание 2-е, дополненное. — М.: Наука, 1955. — 152 с., обл., ил. — Тираж-?
Лихачёв Д.С. «Слово о полку Игореве». Историко-литературный очерк. — М.: Просвещение, 1976. — 176 с., ил. — Тираж 100.000 экз.
Лихачёв Д.С. «Слово о полку Игореве»: Историко-литературный очерк. Пособие для учителей. — 2-е изд., исправленное и дополненное. — М.: Просвещение, 1982. — 176 с., ил. — Тираж 100.000 экз.
Все четыре вышеуказанных издания, из которых я располагаю тремя, представляют одну и ту же книгу. Авторская характеристика издания 1982 г. как 2-го, исправленного и дополненного, вводит читателя в заблуждение: на самом деле это уже 4-е издание, причём изменения в нём, в сравнении с текстом 1976 года, просто ничтожны. Качественная перемена произошла на предыдущем этапе, в процессе переработки раннего текста для издания 1976 г. Автор даже решил выдать обновлённую книгу за новую. Может, в советских издательствах за новую книгу автору больше платили, чем при переиздании старой? Не знаю.
Отправимся мысленно в далёкий 1950-й год. Будущий академик Лихачёв был тогда сравнительно молодым, 44-х летним учёным, служившим в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) под матронажем именитой пожилой дамы, Варвары Павловны Адриановой-Перетц. Вдвоём они подготовили юбилейное издание «Слова о полку Игореве» (150 лет первому изданию, 1800-1950) для серии «Литературные памятники». В том же 1950-м году Лихачёву удалось опубликовать научно-популярную книжку о «Слове». Очень скромную, 164 страницы в мягкой обложке, зато свою собственную: Адрианова-Перетц выступала только в роли ответственного редактора (редактировала, как увидим, скверно). В 1955 г. книжка была переиздана (судя по числу страниц, с минимальными изменениями). Следующее издание вышло в свет после большого временного разрыва, уже в другую эпоху. Да и Лихачёв был уже совсем другим человеком: заведовал Отделом древнерусской литературы в Пушкинском доме, был избран академиком, утвердился в рядах научного истеблишмента и активно использовался вышним начальством в качестве «лица» советской гуманитарной науки. Посмотрим, какие изменения академик Лихачёв в 1976 г. счёл нужным внести в свою старую книжку, чтобы вдохнуть в неё новую жизнь.
Прежде всего мы увидим структурные изменения. Увеличилось число глав: было 13, стало 16 (формально 15, но объективно является 16-й непронумерованная автором заключительная глава, помещённая в разделе «Приложения»).
Глава 5 несколько расширена, и более длинным стало её название. Главы 7 и 10 вообще переименованы, и это главное, что в них изменилось. После переименованной гл. 10 появились три крошечных новых главы (№№ 11, 12, 13), занимающие в общей сложности 7 страниц.
Затем идёт гл. 14, соответствующая прежней 11-й.
Прежние главы 12 и 13 (в совокупности 6 страниц) выброшены, но их материал использован в новой «16-й» главе (которая в «Приложениях»).
Глава 15 (две с половиной странички) написана заново.
И, наконец, самое важное: в структуру книги вводятся «Приложения». Их два:
1) текст-реконструкция «Слова о полку Игореве» (с расстановкой ударений и «поправками», устраняющими тёмные места оригинального текста);
2) заключительная, не пронумерованная («16-я») глава, в масштабах данной книги довольно обширная (26 страниц). Её название: «Когда было написано «Слово о полку Игореве»? (Вопрос о его подлинности)».
В целом объём нового текста невелик: не дотягивает даже до сорока страниц. Правка преобладающего в книге старого текста весьма незначительна и носит чисто косметический характер. Кое-где вставлена новая фраза, кое-где подправлена старая, кое-где произведены незначительные сокращения. Есть и анекдотический пример правки: в главе 8 «обширные пространства» (1950, с. 120) превратились в «необъятные просторы» (1976, с. 89). При этом значимые смысловые изменения отсутствуют: в издание 1976 г. перекочевали из старого текста все допущенные там ошибки, все без исключения. Этот феномен нуждается в объяснении, но сперва рассмотрим факты.
Рассказ о главном герое «Слова» и его семье Лихачёв начинает с грубейших ляпов:
Ко времени похода Игоря Святославича 1185 г. у него было уже трое сыновей: Владимир, Олег и Святослав. Летопись отмечает, что старший его сын Владимир родился в 1172 г. Однако дата эта возбуждает сомнения: в 1185 г., когда Владимир принимал деятельное участие в походе Игоря, ему вряд ли было всего только 13 лет.<...>
Все эти три сына были у Игоря от его первой жены. Евфросиния Ярославовна — дочь могущественного галицкого князя Ярослава Осмомысла — была второй женой Игоря. Он женился на ней за год до похода — в 1184 г. (курсив мой. — А.Г.)
(1950, с. 46; 1976, с. 41; 1982, с. 42; в последнем издании отсутствует текст, который я выделил курсивом)
Здесь соответствует истине только первая фраза (точнее, может соответствовать: год рождения четвёртого Игоревича (Романа) неизвестен, и в принципе он мог родиться после 1185 г.). Всё остальное — серия грубых ошибок. Дочь Ярослава Осмомысла, личное имя которой в аутентичных источниках не указано, была первой и единственной женой Игоря Святославича. Следовательно, матерью всех его сыновей. Владимир, первенец Игоря и Ярославны, родился 8 октября 1170 г., и на момент злосчастного похода ему было 14 лет; возраст для начала военной карьеры древнерусского князя самый подходящий (в те времена взрослели рано, и в 15 лет князя уже могли женить). Проблема Лихачёва в том, что он не приобрёл смолоду полезной привычки исследовать частные сюжеты самостоятельно. Вместо этого он беззастенчиво брал информацию из вторых и третьих рук, не утруждаясь её проверкой (так, например, ложное известие о женитьбе Игоря на Ярославне в 1184 г. взято из комментариев к первому изданию «Слова», 1800 г.). В 1950 г. такой подход был ещё допустим: тема оставалась не разработанной. Но воспроизведение ложных сведений в издании 1976 года носит уже скандальный характер: к этому времени о Ярославне и её сыновьях Лихачёв должен был знать всё, см. публикацию: Соловьев А. В. Восемь заметок к «Слову о полку Игореве» // ТОДРЛ. — М.-Л., 1964. — Т. 20. — С. 378—382. Дело в том, что указанная статья была напечатана в продолжающемся издании того самого Отдела древнерусской литературы Пушкинского Дома, которым заведовал (с 1954 г.) не кто-нибудь, а сам Лихачёв! В издании 1982 г. очередной курьёз: ложные сведения о Ярославне выброшены из текста, а ошибочное указание на год рождения Владимира Игоревича осталось нетронутым, как и нелепый комментарий о «сомнениях». Всё это очень странно: если допустить, что какой-то добрый человек указал академику на пропущенную им в своё время публикацию Соловьёва, то там дата рождения Владимира Игоревича верная.
Ещё одна больная черта творческой манеры Лихачёва — склонность восполнять скудость летописных данных банальным фантазированием. О князе Рюрике Ростиславиче («буй Рюрик» в «Слове о полку Игореве») Лихачёв пишет:
Он был одним из образованнейших людей своего времени и обладателем закалённой в боях дружины.
(1950, с. 16; 1976, с. 14; 1982, с. 15).
Насчёт дружины возражений нет, но вот степень образованности Рюрика нам неизвестна, тут Лихачёв приврал. Мы не знаем даже, умел ли Рюрик писать:)
А Лихачёв продолжает фантазировать:
... До страсти преданный искусству (?? – А.Г.), Рюрик, по выражению летописи, имел "любовь несытну о зданьих". Его зодчим и личным другом был знаменитый "художник" Пётр Милонег.
Ну смешно же, какая может быть дружба между князем и простолюдином? ) Впрочем, механизм рождения домысла в данном случае ясен. В летописном рассказе о строительстве Рюриком подпорной стены у берега Днепра, для защиты церкви св. Михаила от грозящего оползня, сказано буквально следующее: «изьобрете бо подобна делу и художника во своихъ приятелехъ, именем Милонегъ, Петр же по крещению» (ПСРЛ. Том 2. 1908. Стб. 711). В летописях «приятели» князей — это их сторонники из числа горожан (сторонники в политическом смысле). Филологу Лихачёву следовало бы это знать.
Очень охотно использует Лихачёв популярные в научной и околонаучной литературе байки. Немало насочиняли их о знаменитом Романе Мстиславиче («буй Роман» в «Слове»). Лихачёв собрал самые эффектные. Вот, например:
Он заставил побеждённых литовцев расчищать леса под пашни, корчевать лес и заниматься земледелием. Литовцы много лет спустя говорили о нём: "Роман, Роман, худым живешь, Литвою орешь".
(1950, с. 18; 1976, с. 16; 1982, с. 16)
Этот популярный в исторической литературе сюжет восходит к польской хронике Стрыйковского (1582 г.), где связан с именем Романа киевского, т.е. Романа Ростиславича (а вовсе не Романа Мстиславича, князя волынского). Но Лихачёв книгу Стрыйковского, конечно, не открывал, а сюжет заимствовал, что называется, из вторых рук (причём уже с готовой к тиражированию ошибкой). Найти этот сюжет можно у многих авторов, начиная с Карамзина.
Чуть ниже у Лихачёва ещё одна байка о Романе Мстиславиче:
Он приютил у себя византийского императора Алексея III Ангела после изгнания его крестоносцами из Константинополя.
Затрудняюсь определить, у кого из плохих историков Лихачёв это списал, но, в любом случае, это фейк. Алексей III Ангел на Руси не бывал.
Далее следует у Лихачёва третья, самая популярная байка о Романе Мстиславиче:
Папа Иннокентий III предлагал ему королевскую корону под условием признания его власти, но Роман отверг его предложение.
(1950, с. 18; 1976, с. 16; 1982, с. 16)
Этот чрезвычайно распространённый в исторической литературе сюжет восходит к «Истории Российской» В.Н. Татищева (1686—1750). В аутентичных источниках ничего подобного нет. Однако в историчность апокрифических «татищевских известий» веровали во времена Лихачёва даже многие крупные историки (начиная с академика Рыбакова, возглавлявшего на протяжении многих лет советскую историческую науку). Поэтому в данном конкретном случае Лихачёв всего лишь следует тренду, и обвинять его в источниковедческой некомпетентности нет оснований.
Переходим к двум байкам, которые Лихачёв заимствовал у советских горе-искусствоведов. Первая из них — о фресках новгородской церкви Спаса на Нередице.
Восстановленная из руин церковь Спаса на Нередице. Фотография моя, 2013.07.01
Направо от входа в ней был изображён отец Александра Невского новгородский князь Ярослав Всеволодович в русских княжеских одеждах. Изображение это относится к более позднему времени, чем остальные фрески, и, как предполагают (курсив мой. – А.Г.), было выполнено по распоряжению Александра Невского вскоре после смерти его отца в 1246 г.
(1950, с. 31; 1976, с. 26; 1982, с. 27)
Советские историки и филологи обожали такие байки и лихо переписывали их друг у друга (пребывая в полной уверенности, что это «общеизвестно», раз все об этом пишут). На самом деле на фреске Нередицы был ктитор этой церкви, новгородский князь Ярослав Володимерич (если кому интересно, о нём есть неплохая статья в Википедии: «Ярослав Владимирович (князь новгородский)»).
Князь Ярослав Володимерич, предстоящий Христу. Князь-ктитор изображён с моделью церкви, построенной на его средства в 1198 г. на Нередице.
Копия фрески 1199 г., утраченной в 1941 г. при обстреле церкви немецкой артиллерией.
Тема «портретов» древнерусских князей, видимо, чрезвычайно занимала Лихачёва. То ему отец Александра Невского пригрезится, то дед:
Исключительный интерес представляет икона, изображающая Дмитрия Солунского — святого князя Всеволода Большое Гнездо (теперь в Третьяковской галерее). Есть основание думать, что перед нами портретное изображение самого Всеволода.
(1950, с. 39; 1976, с. 34-35; 1982, с. 35)
В изданиях 1976 и 1982 гг. некоторый прогресс: Лихачёв указывает, какое у него основание так думать (даёт ссылку на публикацию известной в своё время сотрудницы Третьяковки). Ссылка, правда, у него с ошибкой, но я её исправлю. Надо так: Антонова В.И. Историческое значение изображения Дмитрия Солунского XII века из г. Дмитрова // КСИИМК. XLI. 1951. С. 85-98 (в наше время все выпуски КСИИМК уже есть в Сети). Антонова довольно осторожна в формулировках: сложная система домыслов привела её к мысли, что «художник, по-видимому, придал лицу солунского святого возрастные черты князя-заказчика», с. 95). Лихачёв делает следующий шаг и без обиняков предлагает нам видеть на этой иконе (на иконе!) «портретное изображение» князя Всеволода. Оказывается, были у нас в XII веке уже и портреты! Продвинутое общество, неправда ли? )
Дмитрий Солунский (начало XIII в.). ГТГ. Иконографический тип не оригинален, есть византийские аналоги.
Расхваливает Лихачёв и русское ремесло XII века, упоминая при этом хорошо известный любителям военной истории экспонат Государственного исторического музея: богато украшенный боевой топорик с выгравированной на нём буквой А. «Это лёгкий стальной топорик со звоном в обухе», сообщает нам Лихачёв (1950, с.39; 1976, с. 35; 1982, с. 35). Ну какой такой «звон в обухе», что за бред?? Есть поговорка: «Слышал звон, да не знает, где он». Здесь наоборот: звон не слышал, зато знает, где он: «в обухе»!
Рассказывая «о пышном расцвете галицко-волынской архитектуры», Лихачёв сообщает: «Остатки почти 30 каменных построек конца XII—XIII в. вскрыты археологами в Галиче» (1950, с. 42; 1976, с. 37; 1982, с. 38). Скорее всего, здесь какая-то путаница (даже зная творческую манеру Лихачёва, трудно поверить, что он способен так разухабисто лгать). Гора над рекой Луквой, где стоял Галич в XII—XIII в. (близ совр. села Крылос), довольно бедна находками: археологами вскрыты только остатки фундамента древнего Успенского собора. Есть ещё уцелевшая церковь св. Пантелеймона, конца XII в., в окрестностях древнего Галича. И это всё!
Верхняя площадка горы у села Крылос, фундамент Успенского собора XII века. На заднем плане поздние здания, времён польского владычества: Васильевская часовня и сравнительно небольшая Успенская церковь.
Древнерусская культура XII века была достаточно развитой для страны с «поздним стартом», но всё-таки существенно уступала византийской и западноевропейской. Советские гуманитарии упорно не желали это признавать, да и правящая партия им этого не позволила бы. Отсюда и неразборчивость в средствах: берём, не взирая на качество, решительно всё, что хоть сколько-нибудь годится для улучшения воссоздаваемой картины прошлого. Не возбраняется и прямое враньё, лишь бы оно не было очевидным... Особенно актуальным был такой подход именно в те годы, когда Лихачёв начал разрабатывать тему «Слова о полку Игореве». Это многое объясняет...
Рассказав нам о людях XII века и о блестящем расцвете древнерусской культуры в эпоху «Слова о полку Игореве», Лихачёв переходит к тексту памятника. Здесь тоже обнаруживается мощное разъедающее воздействие на сознание исследователя советской патриотической риторики. Лихачёв видит не то, что есть, а то, что ему хотелось бы увидеть:
Призыв автора "Слова о полку Игореве" (к единению. – А.Г.) выражен то косвенно, то прямо. Прямо выражен призыв — в "золотом слове" Святослава Киевского, продолженном обращением самого автора "Слова" к русским князьям. Автор обращается к князьям, сидевшим и на востоке, и на западе: князьям владимиро-суздальским, полоцким, галицким и т. д. Всех их автор "Слова" считает причастными общему русскому делу — защите южных границ Руси.
(1950, с. 105; 1976, с. 79; 1982, с. 82)
Найти «прямо выраженный призыв» в "золотом слове" Святослава Киевского довольно затруднительно: там сетования, а не призыв. Далее следует обращение самого автора "Слова" к русским князьям»; вопреки Лихачёву, полоцкие князья там не упомянуты (т.е. здесь уже передёргивание).
Лихачёв продолжает:
Последовательность, в которой автор "Слова" обращается к русским князьям, лишена местничества, лишена и родовой точки зрения. Автор "Слова" не учитывает ни родственных отношений, ни степени важности княжеств. Ему ничего не стоит обратиться сперва к племяннику, а потом к дяде (к Владимиру Глебовичу, а потом к Всеволоду Суздальскому), к ольговичам вперемешку с мономаховичами, к смоленским князьям (Рюрику и Давиду Ростиславичам) прежде, чем к Ярославу Осмомыслу. Скорее всего последовательность здесь живая, непосредственная, лишенная особых расчётов и этикета.
(1950, с. 105-106; 1976, с. 79-80; 1982, с. 82-83)
На самом деле с автором «Слова» всё в порядке, этикет он соблюдает; а вот Лихачёву ничего не стоит подменить генеалогический анализ чистым умозрением (что обусловлено воздействием предвзятой идеи). И опять не получается без передёргивания: вопреки Лихачёву, в тексте нет обращения к Владимиру Глебовичу (упоминание о нём, а не обращение к нему, есть в конце "золотого слова" Святослава Киевского). Ниже, в обращении к князьям, автор «Слова» начинает с Всеволода Суздальского (5-е колено, считая от Владимира Крестителя), затем переходит к Рюрику и Давыду Ростиславичам (6-е колено), затем к Ярославу Галицкому (тоже 6-е колено), затем к нескольким волынским князьям (все представляют 7-е колено). Ниже упоминаются князья полоцкой земли, но это уже за рамками обращения: автор о них рассказывает, а не обращается к ним. Ни один ольгович в авторском обращении не упомянут, следовательно, нет и пригрезившегося Лихачёву обращения «к ольговичам вперемешку с мономаховичами». Вероятно, Лихачёва сбил с панталыку тот факт, что Святослав Киевский в "золотом слове" упоминает своего младшего брата Ярослава (сетуя, что не видит помощи от него). Оба брата – ольговичи. Строго говоря, обращения к Ярославу нет, но если бы и было, то обвинять автора «Слова» в нарушении этикета всё равно нет повода: братья-ольговичи представляют то же 5-е колено потомков Владимира Крестителя, что и упоминаемый ниже Всеволод Суздальский. Причём ольговичи представляют старшую ветвь рода, а мономашич Всеволод —младшую.
Но что это мы всё о князьях да о князьях? Было же у нас на Руси и «народоправство», Господин Великий Новгород. Но автор «Слова» почему-то не зовёт новгородцев в поход против половцев... На мой взгляд, это вполне закономерно и легко объясняется географически: где Волхов, и где Дон? Это в XX веке, имея развитую железнодорожную сеть, сравнительно легко было перебрасывать войска на огромные расстояния и успешно решать вопросы их снабжения. Но для Лихачёва проблем средневековой военной логистики не существует. В его сознании прочно засела предвзятая идея, популярная ещё при царе и благополучно унаследованная советской наукой: всё зло от бояр!
Во главе Новгорода стоял не князь, который худо ли, хорошо ли, но всё же мог быть в XII в. представителем общерусских интересов, а боярская олигархия, которая была связана только со своей землёй и для которой общерусские интересы были совершенно чужды. Обращаться к ней было бесполезно, и автор "Слова" не сделал этого. Ни разу ещё в XII в. новгородские войска не участвовали в общерусских походах.
(1950, с. 109; 1976, с. 81; 1982, с. 85)
Последняя фраза особенно забавная. В XII в. было три общерусских похода:
1) поход 1128 г. на Полоцкую землю, организованный Мстиславом Великим. Новгородцы в нём участвовали.
2) поход 1169 г. на Киев, организованный Андреем Боголюбским. Новгородцы в нём не участвовали, поскольку находились с Андреем в состоянии войны.
3) поход 1170 г. на Новгород, организованный Андреем Боголюбским. Новгородцы в нём не участвовали по причине, мне кажется, вполне понятной и вполне извинительной...
Разгром новгородцами общерусского войска 25 февраля 1170 г. (нижний регистр иконы XV века «Чудо от иконы Богоматери "Знамение"», Новгородский государственный объединённый музей-заповедник)
Следующий дефект, который мы разберём, очень грубый, хотя имеет в основе лишь банальную небрежность в обращении с цитатами. Лихачёв приводит обращение двух мелких рязанских князей, Всеволода и Владимира Глебовичей, к могущественному владимиро-суздальскому князю Всеволоду Юрьевичу:
"Ты господин, ты отец,— говорили через послов рязанские князья, — брат ваю («ваш», двойственное число. – А.Г.) старейший Роман уимает («отнимает».– А.Г.) волости у наю («у нас», двойственное число. – А.Г.), слушая тестя своего Святослава, а к тобе крест целовал и переступил" (Ипатьевская летопись).
(1950, с. 115; 1976, с. 85; 1982, с. 88)
Меня эта цитата удивила несказанно: во-первых, ничего подобного в Ипатьевской летописи я не помню (проверка показала, что ничего подобного там и нет; цитата на самом деле из Лаврентьевской летописи). Во-вторых, удивляет сам текст цитаты: там явная опечатка, лишающая текст смысла. Следует читать не «брат ваю» (ваш), а «брат наю (наш)» (см. ПСРЛ, т. 1, стб. 387, под 1180 г.). Лихачёв бессмыслицу приведённой им фразы не заметил, и опечатка триумфально прошла через все четыре издания. Зато в следующей главе он заметил и устранил другой дефект: переправил «обширные пространства» (1950, с. 121) на «необъятные просторы» (1976, с. 89). Право же, странные у него были приоритеты:)
Сразу после цитаты с опечаткой Лихачёв делает глубокий вывод в области политической истории: постулирует «отношения безусловного подчинения, сложившиеся на северо-востоке между владимиро-суздальским князем и подручными ему рязанскими князьями». Это грубое упрощение, легко опровергаемое летописным материалом. Рассуждения о «лестнице феодального подчинения» (1950, с. 116; 1976, с. 85; 1982, с. 88) в отношениях между русскими князьями — типичный штамп советский исторической науки.
И здесь мы подходим к проблеме модернизмов книги Лихачёва, которыми она весьма насыщена. Часть их обусловлена психологической зависимостью от концепций советских историков господствующей школы Грекова, часть вполне индивидуальна. К первому разряду следует отнести попытку Лихачёва раскрыть политические взгляды автора «Слова о полку Игореве»:
... Он уже видит значение сильной княжеской власти, но права́ первого князя на Руси ещё обосновывает необходимостью строгого выполнения пра́ва феодального, подчеркивая в нём подчиняющие линии, права́ сюзерена, а не вассала.
(1950, с. 118; 1972, с. 87; 1982, с. 90).
Здесь Лихачёв довольно бесцеремонно приписывает человеку русского Средневековья взгляды советской исторической науки, изображавшей Русь XI—XII веков высокоразвитым феодальным обществом, политическая система которого мало отличалась от классического феодализма Западной Европы.
Гораздо интереснее второй разряд модернизмов, где Лихачёв выступает в роли самостоятельного мыслителя. Если, конечно, так можно выразиться (ибо речь идёт скорее о недомыслии).
В главе ПРИРОДА В "СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ" Лихачёв сообщает нам: «Средневековые писатели как бы ещё не осознают самостоятельной ценности (картинных) описаний природы для литературы» (1950, с. 130; 1976, с. 95; с. 1982, с. 98; в изданиях 1976 и 1982 гг. вставлено прилагательное «картинных»). Средневековые писатели не только не осознают самостоятельной ценности описаний природы, но и не могут это осознать... потому что в их сознании отсутствует само понятие «природа», предполагающее высокоразвитое абстрактное мышление. Возникает вопрос: почему Лихачёв широко использует возникшее в Новое время обобщающее понятие «природа», которого в сознании автора «Слова о полку Игореве» заведомо не было? Потому что Лихачёв не верит в эволюцию человеческой психики. «Мне представляется,— пишет он по этому поводу в другой книге,— что постановка вопроса об особом характере средневекового мышления вообще неправомерна: мышление у человека во все века было в целом тем же» (Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд., доп. — М., 1979. — С. 68). В постсоветскую эпоху эта одиозная фраза вошла даже, как отрицательный пример, в учебную книгу для студентов-историков (Источниковедение. Теория. История. Метод. Источники российской истории. Учебное пособие для гуманитарных специальностей. — М.: РГГУ, 1998. — С. 179).
А вот модернизация прямо запредельная:
Только ли к русским князьям направлял свой призыв автор "Слова"? Нет, конечно. "Слово" было обращено к общественному мнению всего русского народа, ко всем лучшим русским людям. Вот почему это общественное мнение занимает такое большое место в "Слове"...
(1950, с. 115; 1976, с. 81; 1982, с. 86)
Ну не иначе как в древнерусской газете «ПРАВДА» было опубликовано «Слово о полку Игореве»! На первой полосе! Все лучшие русские люди зачитывались, рвали газету друг у друга из рук:)
Это шутка, но в каждой шутке есть доля правды. Где поэтическое слово реально было обращено «к общественному мнению всего русского народа, ко всем лучшим русским людям», так это в СССР. К примеру, поэма Роберта Рождественского «Двести десять шагов» была впервые опубликована в газете «Комсомольская правда» (17 декабря 1978 года). Это на моей памяти, но такие вещи и раньше делались; даже в главной газете страны, в «Правде», появлялись иногда на первой полосе стихи. И по меньшей мере с 1937 года. Лихачёву эта практика, конечно, прекрасно была известна. Идеологический прессинг всегда оказывает воздействие на людей, пусть даже и на уровне подсознания. И проявляться это может самым удивительным образом.
Между прочим: откуда взялись в конце XII века «русские люди» и «русский народ»? Почему, вопреки научному принципу историзма, на протяжении всей книги представители древнерусской народности (русины) последовательно именуются «русскими»? Потому что написана книга в 1950 г., в эпоху послевоенного сталинского руссоцентризма. Именно в 1945-1950 гг. Лихачёв окончательно сформировался как учёный.
Всё вышесказанное относится к старому массиву текста, правку которого приходится признать халтурной: все выявленные дефекты восходят к версии 1950 года. Но ведь есть в изданиях 1976/1982 гг. и новый текст! Может быть, хотя бы здесь Лихачёв на высоте?
Откроем заключительную главу, где доказывается подлинность «Слова». В целом Лихачёв успешно справился с задачей, но без ляпсусов и тут не обошлось.
... летопись не знает упомянутого в «Слове» Изяслава Васильковича. Из двух его братьев, Вячеслава и Всеволода, летопись упоминает только первого. «Создавать» нового брата автору «Слова» не было никакого смысла. Между тем из летописной статьи 1180 г. мы знаем, что братьев было семь. Это косвенно подтверждает возможность существования Всеволода.
(1976, с. 161; 1982, с. 159).
Понять здесь что-либо сложно, но можно. Лихачёв неуклюже комментирует следующее место из «Слова»:
Единъ же Изяславъ, сынъ Васильковъ, позвони своими острыми мечи о шеломы литовскія <...> Не бысь ту брата Брячяслава, ни другаго — Всеволода.
Итак, в «Слове» упомянуты трое Васильковичей:
- Изяслав
- Брячислав (не Вячеслав, как у Лихачёва!)
- Всеволод
Брячислав Василькович упомянут также в Ипатьевской летописи, причём в четырёх разных местах, и его историчность сомнений не вызывает. А вот Изяслав и Всеволод Васильковичи нам известны только благодаря «Слову», поэтому их историчность под некоторым сомнением. Обратившись к упомянутой Лихачёвым летописной статье 1180 г., мы увидим, что там действуют Брячислав и «братъ его Всеславъ» (ПСРЛ. Том 2. 1908. Стб. 620). Как же узнал Лихачёв из этой статьи, что «братьев было семь»? Лично я думаю, что он попросту соврал. А вы думайте, что хотите.
Чуть ниже обнаруживается у Лихачёва ещё более удивительное место: он сообщает нам (1976, с. 161; 1982, с. 160), что женой Олега Святославича, родоначальника Ольговичей, была некая «Ростиславна», упоминаемая якобы в Ипатьевской летописи под 1116 годом. Но она там не упоминается, и упоминаться не может, поскольку эту «Ростиславну» сам Лихачёв и выдумал. Между прочим, хороший пример того, что генеалогические вымыслы не всегда мотивированы. «Создавать» Олегу Святославичу новую жену Лихачёву не было никакого смысла, но он всё-таки сделал это.
Как видим, дефектов в рецензируемой книге более чем достаточно (я ещё и не все перечислил, дабы вас не утомлять). Пресловутый академик Лихачёв, крупный теоретик текстологии, в ипостаси популяризатора предстаёт перед нами как автор довольно легковесный, подверженный бессознательной модернизации изучаемой эпохи, безразличный к точности и достоверности приводимых им сведений, падкий до баек; кое-где у него обнаруживается даже и склонность приврать. И всё-таки книга его не так уж плоха. Надо признать, что разноплановые аргументы Лихачёва в пользу подлинности «Слова» в большой заключительной главе были весьма актуальны вплоть до появления лингвистического исследования академика Зализняка, фактически закрывшего тему. Особенно интересно сопоставление «Слова» с «Задонщиной» (впрочем, Лихачёв идёт здесь по стопам своей многолетней руководительницы, Адриановой-Перетц).
Представляет определённый интерес объяснительный перевод «Слова», составляющий основное содержание главы 5. Там всё ясно и понятно, поскольку переводится не оригинальный текст, многие места которого вызывают ожесточённые споры исследователей, а изготовленный в 1950 г. Лихачёвым для юбилейного издания текст-реконструкция, с многочисленными поправками-конъектурами (лат. conjectura в буквальном переводе означает «догадка»). Степень обоснованности этих конъектур очень разная. Так называемые тёмные места «Слова», где текст явно испорчен, исправлены вполне произвольно практически во всех случаях, отсюда и гладкость объяснительного перевода. Но у читателя, который этого не знает, непременно возникнет иллюзия, что переводчик прекрасно понимает весь сложный древнерусский текст. Что, конечно, к вящей славе академика Лихачёва:)
Но, может быть, именно такой подход и нужен той аудитории, к которой обращена книга? Подзаголовок четвёртого издания указывает на эту аудиторию вполне определённо: «Пособие для учителей». Именно им и нужна ясность; как же иначе преподавать? А дискутируют пусть учёные.
В общем, я полагаю, что учителя сумеют извлечь практическую пользу из этой книги. Но если вы не преподаёте литературу в школе, то даром потратите время: книга морально устарела. Читать такое можно только за неимением лучшего.

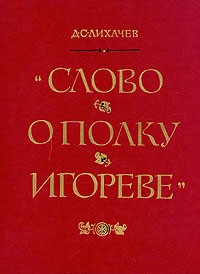






Комментарии
Очень познавательно. Я пытался прочитать что-то из работ Лихачева, еще когда учился - и не смог, очень уж вялый, скучный и картонный язык. Так что перед гениальностью преклоняюсь, но читать и перечитывать не буду.
Поверю вам, ибо сам не смог оценить его творческое и научное наследие. Помню, что он был иконой у интеллигентов в СССР периода застоя, и что он был академик. Да, и еще его какие-то письма публиковались, которые я не читал.
По-моему, пропала частица "не" в скобочках, после слова "вовсе"?