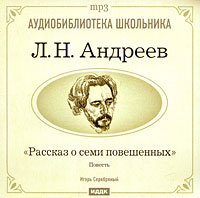Больше рецензий
10 июня 2017 г. 08:07
251
0 «Мою любовь, широкую, как море, вместить не могут жизни берега…»
Рецензия«Разве я её, дьявола, боюсь? – думал он о смерти. – Это мне жизни жалко. Великолепная вещь, что бы там ни говорили пессимисты».
«Рассказ о семи повешенных» – возможно, не самое пронзительное произведение у Леонида Андреева. Точнее, оно резко пронзает, а затем медленно так и тупо покалывает. Несмотря на то, что зачастую Андреев помимо сложной тематики воздействует ещё эмоционально или, как говорят филологи, экспрессионистически, здесь его стиль в таком сравнении может даже показаться слегка отстранённым. Но уже во время прочтения улавливаешь, почему эту страшную и одновременно обыденно представленную историю нужно было рассказать именно так.
Движение повести – это неумолимое направление к «смерти, о которой знали заранее». И если в процитированной повести Маркеса смерть представала неминуемым роком, то у андреевских героев всё прозаичнее – их фактически заслуженно приговорили к смертной казни через повешение. Нет, не бойтесь, смачных описаний казни или чего-то подобного вы здесь не найдёте – есть вещи и пострашнее. Например, ожидание смерти в конкретное время и конкретный день, отчего узникам повести никуда не деться. Но все семеро приговорённых переживают это экзистенциальное испытание по-своему – а как иначе?
«И не смерть страшна, а знание её; и было бы совсем невозможно жить, если бы человек мог вполне точно и определённо знать день и час, когда умрёт».
Эта цитата, кстати, принадлежит не заключённым террористам, а министру, на которого они готовили покушение, но были преданы информатором охранки. Атмосфера, думаю, уже рисуется красочная: начало XX века, уже более 40 лет продолжается «разговор» радикально настроенной интеллигенции с малоподвижным монархизмом — то на одной, то на другой стороне погибают люди. Мне вот всегда будет жаль Александра II — ведь один из самых прогрессивных императоров своего времени в нашем государстве! Но нет, по мнению народников, террором и убийствами верхушки власти можно было что-то переменить в закостеневающей системе… И сейчас эта точка зрения пользуется успехом в широких кругах — каждый россиянин хоть раз и говорил: «вот поменять власть — и заживём!». Народники, эсеры, черносотенцы, петрашевцы и прочие, конечно, в большинстве своём так примитивно не смотрели на вещи, но свято верили в то, что ради светлого будущего должна пролиться кровь. Это пласт огромный, и мне его сейчас не ухватить. Но проблема террора и подобного подхода — это, для меня по крайней мере, тема очень интересная и, что главное, совсем не однозначная.
Самое сильное в повести Андреева то, что он не просто показывает «бунтовщиков» живыми людьми, а врывается в человеческое сознание, «поражённое» предчувствием близкой смерти. Их, «политических», было заключено всего пятеро – Серёжа Головин, Вася Каширин, Вернер, Муся и Таня Ковальчук. Всех их с разным прошлым и происхождением объединили общее дело и общая судьба. Серёжа – сын отставного военного, Вася – сын купца, философ Вернер вообще непонятно откуда взялся. Больше всего, конечно, поражают и притягивают фигуры девушек – они, подобно одновременно Марии Магдалине или Жанне д’Арк, святы в своём спокойном принятии приговора и вере в торжество своих идеалов. Таня Ковальчук – практически «мама» для всей группы – для неё, кажется, не существует понятия «личная выгода» или «эгоцентризм», все её мысли – только о товарищах. Ей принадлежит и последний подвиг уже на пути к эшафоту, но этот эпизод я оставлю для знакомства любопытному читателю.
«Компанию» в приглашении на казнь бунтовщикам составляют простые заключённые – якут Янсон, под конец ожидания превратившийся в испуганное и отупевшее существо, и разбойник Цыганок, испугавшийся всходить на эшафот не в паре, как все, а один.
Сюжет, которого строго говоря, здесь особо-то и нет, одновременно напоминает Достоевского и сильные романы советского периода (соцреалистические, конечно). В первом случае – своим психологизмом и изучением самой темы приговорённости к смерти, а во втором – образами главных персонажей. Несмотря на свою поистине христианскую жертвенность, они предстают перед читателем не в плоском и однозначном изображении, нет. А ты после прочтения нащупываешь внутри какую-то точку, надавливая на которую при особом усердии можно и возгореть желанием стать героем и отстаивать свои принципы в новой форме. Где-то далеко и высоко эти люди со своими непоколебимыми идеалами… Но с годами всё больше понимаешь, что без рецепта молодости, возможно, ничего бы и не вышло. Да и понятны ли сейчас современному читателю такие личности? Всё-таки на жизнь человека покушались. Изменило бы это что-нибудь? Вряд ли. Но, как говорил персонаж другой небезызвестной книги: «По крайней мере я попытался».
А стихи Алексея Толстого, которые читает наизусть Муся уже на эшафоте, приобретают какие-то новые оттенки смыслов. Судить всё-таки героев повести Андреева сложно — они где-то в другой системе координат.
Но не грусти, земное минет горе,
Пожди ещё — неволя недолга,-
В одну любовь мы все сольёмся вскоре,
В одну любовь, широкую как море,
Что не вместят земные берега!
P.S. Да, как можно догадаться, у пяти политзаключённых повести были реальные прототипы. Это члены «Летучего боевого отряда партии социалистов-революционеров Северной области», которых предал навсегда вписавший себя в историю великим предателем тот самый Азеф. Их казнили с 17 на 18 февраля 1908 года в Лисьем Носу.