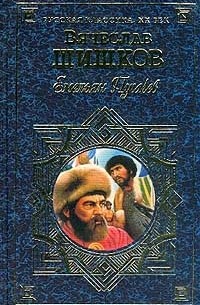Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Часть вторая
Глава I. Главнокомандующий Петр Панин. Мир с Турцией. На юг. Курмыш, Алатырь. Суд
1
Никита Панин не дремал. Как только услыхал он оброненную Григорием Потемкиным фразу о «знаменитой особе», тотчас написал об этом брату, а вскоре и сам выехал к нему в подмосковную деревню.
Братья любили друг друга и при встрече прослезились. Время брало свое. Но старший, Никита, выглядел моложе своего брата и был крепче его. Петр Панин заметно дряхлел, становился тучным, однако жизненного огня было в нем еще довольно.
В беседе Никита сказал:
– Как я уже сообщал тебе, Петр, в виде письменном, фаворит на военном совещании молвил матушке тако: надлежало бы, мол, отправить некую знаменитую особу, вровень с покойным Бибиковым стоящую.
– А и умен этот Гриша одноглазый, ей-ей, умен, – перебил брата Петр, расхаживая с палочкой по горнице.
– Да, охаять его в этих смыслах никак не можно... Человек с принципиями твердыми. И я думаю... – Никита сделал паузу и, уставившись в глаза брата, продолжал: – И я думаю, что сей знаменитой особой надлежало бы быть не кому иному, а тебе.
Петр прищурился на брата, поправил на лысеющей голове голубой колпак с кисточкой, его лицо изобразило ложную гримасу равнодушия, сменившуюся затем выражением властолюбивого тщеславия.
– Что ж, Никита, – сказал он, – я об этом казусе довольно думал. Но-о-о!..
– Ведь ты пойми, брат, – перебил его Никита под напором обуревающих его мыслей. – Потомки нарекли бы тебя героем, яко благополучно разрешившим сей бедственный народный кризис. И род наш, старинный род Паниных, вознесясь, навеки укрепился бы в истории.
– Да, ты сугубо прав, – высоко вскинув голову, ответил Петр. – Но... Ты сам ведаешь: матушка на меня зуб имеет и ни за что на свете не отважится создать из меня персону знаменитую. Побоится! – воскликнул Петр, пристукнув тростью в пол. – Она и Гришки-то одноглазого побаивается, а тут ты меня толкаешь в грансеньоры... Да ведь я царских полномочий себе запрошу.
– Так и надо, так и надо, Петр! Лишь бы ты согласился, а уж там... Положись на меня.
– Я согласен... Что ж, ради спасения отечества и пошатнувшегося корпуса дворянского утверждения, я согласен...
Братья снова крепко обнялись и снова прослезились. Петр вдруг почувствовал, что душа его ширится, за плечами как бы вырастают крылья, под ноги подплывает некий пьедестал и вздымает его все выше, выше. Призрак власти реет над ним, захватывает его, зовет на подвиг...
21 июля в Петербурге уже было получено известие о сожжении Казани.
Правительство, в особенности сама императрица, отнеслось к этому известию весьма тревожно: распространение мятежа угрожало не только внутренним губерниям, но даже и Москве.
– Черт возьми! – воскликнула Екатерина. – Все, все, даже Михельсон, не могут угнаться за маркизом Пугачевым!
– Это ничего, – ответил ей Потемкин, – сие оттого и происходит, что Пугачев больше не царствует. Он царствовал в Оренбурге, а ныне бежит, как заяц.
Екатерина собрала заседание Государственного совета. Она явилась на совет запросто, без пажей, без адъютантов. Открыв заседание, она в своей речи дала общую характеристику восстания, гневно отзывалась о действиях главнокомандующего Щербатова и подчиненных ему лиц. И в конце речи заявила:
– Я весьма и весьма опасаюсь за Москву. Пугачев прокрадывается к первопрестольной, дабы как-нибудь там пакость какую ни на есть наделать – сам собою, фабричными или барскими людьми. А посему и ради спасения империи я намерена сама ехать в Москву и взять на себя все распоряжения к усмирению восстания и ко благу общества клонящиеся! Прошу Государственный совет высказать по сему свои суждения.
У нее был столь возбужденный вид и крикливый, какой-то запальчивый голос, что присутствующие сочли нужным, потупив глаза, отмолчаться. Молчал и Никита Панин. Видя замешательство присутствующих, Екатерине ничего не оставалось, как спросить каждого персонально.
– Скажите, Никита Иваныч, – обратилась она к Панину, – хорошо или дурно я поступаю?
Опасаясь испортить отношения с Екатериной и не теряя надежды возвысить брата до «особы знаменитой», Никита Панин отвечал ей чрезмерно почтительным, даже вкрадчивым голосом:
– Не только не хорошо, ваше величество, но и бедственно в рассуждении целости империи. Оная ваша поездка в Москву, увелича вне и внутри империи настоящую опасность, более нежели она есть на самом деле, может ободрить и умножить мятежников и даже повредить дела наши при других дворах. – Считая, что он достаточно запугал императрицу, пожелавшую занять пост «особы знаменитой», Никита Иваныч опустил голову и смолк.
Екатерина прищурила на него глаза и отвернулась. Ее поддержал Григорий Потемкин:
– А что ж, а что ж, – сказал он. – Я по сему с Никитой Иванычем не согласен в корне. Поездка вашего величества в Москву навряд ли повредит империи внутри и вне ее.
Был опрошен князь Орлов. Он сидел с презрительным ко всему равнодушием, хмуро косился на Потемкина и, ссылаясь на нездоровье, на плохой сон, извинился, что по сему поводу «никаких идей не имеет».
«Окликанные дураки», – как выражался про них в письме к брату Никита Панин, – бывший гетман Разумовский и Голицын – тоже твердым молчанием отделались. Скаредный Чернышев трепетал между фаворитами, он вполголоса вымолвил, что самой императрице ехать-де вредно, и сделал вид, что спешит записать имена тех полков, которым к Москве «маршировать вновь повелено».
В общем, поездка императрицы в Москву была отложена. Государственный совет постановил: послать в первопрестольную два полка пехоты, два полка конных гусар и казаков да легкую полевую команду с несколькими орудиями; побудить московское дворянство к набору и содержанию конных эскадронов по примеру казанского дворянства и, наконец, отправить в Казань для командования войсками знаменитую особу с полной мочью.
Кто будет знаменитой сей особой – ни один из многочисленных присутствующих не знал. Гадали на Григория Орлова, на Румянцева, на бывшего гетмана Разумовского, наконец – на самого Потемкина, но ни у кого и в помыслах не было о назначении на пост главнокомандующего генерала Петра Панина, столь неприятного императрице.
Вот тут-то Никите Панину и приспело время действовать.
В тот же день, после обеда во дворце, он отвел Потемкина в сторону и не без пафоса сказал ему:
– Дорогой друг, Григорий Александрович, сделай мне, старику, Божескую милость, похлопочи у всемилостивейшей, дабы она позволила мне принять на себя тяготы главнокомандующего для прекращения народных бедствий. Не могу терпеть больше... Ночи не сплю!
– Да что ты, Никита Иваныч... Перекрестись! – отступив на шаг и сцепив кисти рук пальцы в пальцы, с немалым изумлением проговорил Потемкин. И тотчас же смекнул: «Ага, сейчас о Петре зачнет, лисица». – Ты человек сугубо не военный, где ж тебе. Да и как мы без тебя здесь останемся? Подумай...
Никита потупился, в смущении погрыз ноготь, глаза его увлажнились. Он сказал:
– Ведь дело становится там час от часу важнейшим и сумнительнейшим. Ну... в таком разе, ежели не я, то Петр Иваныч Панин мог бы с честью стать на защиту империи. Сей прославленный воин не столь дряхл еще. Да ежели и на носилках довелось бы его нести, он все едино примет на себя ратный подвиг ко спасению отечества. А ведь он бодр душою и телом. Поди, поди, друг, Григорий Александрыч, доложи о сем всемилостивой государыне.
Потемкин сообразил, что братья Панины ищут случая привлечь его на свою сторону. «Ну, что ж, это хорошо. Они, в случае чего, помогут мне бороться с партией Орловых», – подумал он и направился в кабинет Екатерины.
Она только что кончила с Бецким партию в шахматы. Иван Иваныч Бецкий был первый просвещенный аристократ, долго живший в Париже, где познакомился с течениями по части особого воспитания детей, «дабы создать породу людей новых». Екатерина считала Бецкого своим единомышленником и благоволила к нему, этому гибкому, ловкому царедворцу. Прощаясь с Екатериной, он насмешил ее французским анекдотом, поцеловал руку и ушел.
Проводив его, Екатерина принялась перекладывать с письменного стола на шифоньерку новые книги, доставленные из академической лавки, чтоб захватить их в Царское Село.
– Я сейчас уезжаю, Гришенька, – сообщила она вошедшему Потемкину.
– Куда, в Москву?
– Пока в Царское, – с улыбкой ответила она. – Уже лошади заложены.
– Матушка, тебе надлежит быть здесь ежечасно. Сама понимаешь... Хотя бы дня два-три. Послушайся меня, матушка. – Он вскинул брови, брякнул в звонок и явившемуся камер-лакею приказал: – Ее величество остаются в Петербурге. Распорядись, братец.
Екатерина насупилась, но вслед за сим на ее вспыхнувшем лице появилась прощающая улыбка. Влюбленная в Потемкина, она подмечала, что начинает несколько побаиваться его. Однако, видя в нем государственный ум и сильную волю, старалась оберегать свои отношения к нему, как к человеку ей необходимому. Да, Григорий Александрович – не Гришенька Орлов со своей мягкой, словно воск, натурой... Она сказала:
– Ты, Григорий Александрыч, чересчур ретив.
– Матушка, так надо. Да и глянь, какая туча заходит, – промолвил он, осанисто вышагивая к огромному, как дверь, окну, выходившему на невские просторы.
– Глупости, – бросила Екатерина, – я в карете... – Она тоже подошла к окну и почувствовала себя возле великана в светло-зеленом, расшитом серебром кафтане не более, как подростком-девочкой. Из-за Невы действительно вздымалась туча, и на ее свинцовом фоне сверкал под солнцем золоченый шпиль Петропавловской крепости.
– Так в чем же дело? – став рядом с Потемкиным и положив ему руку на плечо, спросила Екатерина.
– А вот. – И Потемкин, осторожно повернувшись к ней лицом и с нежностью целуя ее руку, доложил ей свой разговор с Никитой Паниным.
– Что, Петра? Главнокомандующим?! – отступив от Потемкина и зажимая пальцами уши, воскликнула Екатерина. – Нет-нет-нет!.. Не слушаю, не слушаю.
– А все же выслушай, матушка. – И Потемкин усадил ее против себя в кресло.
– Это невозможно, невозможно! – отмахиваясь руками и потряхивая головой, противилась Екатерина. – Это ж мой персональный оскорбитель!..
– Матушка, обстоятельства требуют от тебя жертвы. Сложи гнев на милость.
– Но ведь он враг мой, враг! – вновь воскликнула она, пристукнув маленьким кулачком по своей коленке.
– Матушка, – спокойно возразил Потемкин. – Ежели он враг, то... в первую голову враг Пугачеву, а потом уж тебе.
Этот мудрый ответ заставил Екатерину призадуматься... Да! Григорий Александрыч, как всегда, прав. Петр Панин, конечно же, будет прежде всего защищать интересы дворянского корпуса и этим самым утверждать неколебимые устои государства. Но у нее по сему поводу другое основательное опасение, бросающее в душевный трепет. Ей достаточно известно властолюбие обоих братьев Паниных и их всегдашняя приверженность к наследнику престола Павлу. И вот сама судьба, попустительством ее, Екатерины, дает им, братьям, в руки страшную доподлинную силу: войска и власть. Нет, нет, этого невозможно допустить!..
И она вновь, вся загоревшись, с азартом принялась атаковать Потемкина:
– Ты только вдумайся, Гришенька. Господин граф Никита Панин из брата своего тщится сделать повелителя с беспредельной властью в лучшей части империи: в Московской, Нижегородской, Воронежской, Казанской и Оренбургской губерниях, a sous entendu есть и прочие. Ведь в таком разе не токмо князь Волконский будет огорчен и смешон, но и я сама ни малейше не сбережена, а пред всем светом первого враля и мне персонального оскорбителя превыше всех в империи хвалю и возвышаю... Что ты на сие скажешь? – Сердце Екатерины усиленно билось, грудь дышала прерывисто, она поджала губы и уставилась в лицо Потемкина, она ожидала от своего друга возражений и приготовилась к самозащите. Но ощущение своей пред ним малодушной робости сбивало ее с твердых позиций обороны. Ах, как неприятно, как мучительно сознание собственной слабости...
Потемкин, заложив ногу за ногу, обхватив руками коленку и скосив глаза, внимательно рассматривал изящную пряжку своей туфли, осыпанную бирюзою и гранатами. Он повернул к Екатерине голову и на басовых нотах сказал спокойно:
– На сие ответствую, матушка, тако: ни огромной военной силы, ни безграничной власти у Петра Панина не будет. Не будет! Царем он никогда себя не возомнит, а тебя, матушка, мы сберегчи да оборонить завсегда сумеем... Уж поверь, всеблагая. В этом смысле и указ заготовить прикажи. Ну, так скликать сюда Никиту-то? Он ждет не дождется.
– А это нужно?
– А как ты полагаешь? – повелительным тоном сказал он.
– Зови.
Переборов себя, она милостиво кивнула вошедшему Панину, усадила его в кресло, деланно заулыбалась и, не дав ему открыть рта, обрушила на него каскад приятных слов и восклицаний:
– Я очень, очень растрогана вашим патриотическим поступком, Никита Иваныч! А что касаемо Петра Иваныча, то клянусь вам всем святым, что я никогда не умаляла доверенность к сему славному герою. Более того, совершенно я уверена, что никто лучше его любезное отечество наше не спасет. Передайте Петру Иванычу мой полный к нему решпект и что я в оное время с прискорбием его от службы отпустила. А ныне я с чувствительной радостью слышу, Никита Иваныч, что ваш знаменитый брат не отречется в сем бедственном случае служить нам и нашему отечеству.
Потемкин, стоя у окна, наблюдал происходившую беседу. Он с удивлением прислушивался к словам Екатерины, его брови скакали вверх и вниз, губы складывались в язвительную улыбку.
Никита Панин, пораженный столь быстрым и благоприятным решением «жребия» брата, припал на одно колено и, склонив покорную голову, поцеловал руку императрицы.
– Итак, положась на промысел Божий, будем, Никита Иваныч, действовать.
– Будем действовать, ваше величество! – взволнованно откликнулся Панин, вспомнив с острой болью в сердце насильственную смерть шлиссельбургского узника56 и ту же фразу о «промысле Божьем», произнесенную тогда императрицей.
За окнами хлынул дождь, ослепительно сверкнула молния, резко ударил трескучий громовой раскат. Екатерина вздрогнула, приказала задернуть на окнах драпировки, отошла в дальний угол комнаты.
Граф Никита Панин, не мешкая, отправил в Москву к брату гонца – гвардии поручика Самойлова, родного племянника Потемкина. Панин посылал письмо, Потемкин давал словесное поручение племяннику – убеждать Петра Иваныча, чтобы он «просил государыню всеподданнейшим отзывом о желании его служить и быть полезным государству для укрощения беспокойств».