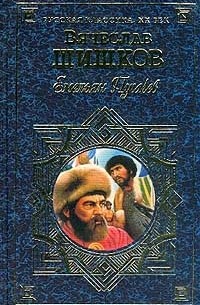Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
2
На другой день, 23 июля, было получено донесение фельдмаршала Румянцева о заключении так называемого Кучук-Кайнарджийского мира с Турцией. Мир был подписан 10 июля на довольно выгодных для России условиях. Черноморские портовые города: Азов, Керчь, Еникале и Киндури, а также важнейшие торговые пути – устья рек Дона, Буга, Днестра и Керченский пролив переходили во владение России. Русские купцы получали особое покровительство со стороны турецких властей при плавании купеческой торговой флотилии как по Черному морю, так и вообще по морским путям Турции. Кроме того, Турция выплачивала России 4 500 000 рублей контрибуции в золотой монете.
Таким образом, для русской торговли с иноземными рынками как хлебом, так и прочими земледельческими товарами открывались широчайшие возможности. И эти новые ворота чрез Черное море на Запад были прорублены победоносной русской армией, геройски сражавшейся в течение семи лет под начальством прославленных полководцев Румянцева, Суворова, Панина, Потемкина, Каменского и прочих. Им и всему российскому народу – честь, слава и вечная благодарность потомков!
Сам Потемкин, да и некоторые вельможи о славном победителе графе Румянцеве отзывались так:
– Фельдмаршал – один из людей, кои в долгих веках счетны.
Английский министр иностранных дел писал посланнику Георга III в Петербург:
«Я посвящу эту депешу разбору дела, которое может оказать весьма важное влияние на интересы России в торговом отношении. Я разумею плавание по турецким морям. Если взглянуть на карту, очевидно, что Россия может извлечь много торговых выгод из последних своих приобретений на Черном море и свободного прохода по Дарданелльскому проливу, предоставленному ее купеческим кораблям. Один только зерновой хлеб, выставляемый в огромном количестве губерниями, прилегающими к Черному морю, займет значительное количество кораблей, но это ничуть не помешает торговле русских северных портов...»
Правительство торжествовало. Императрица считала «день сей счастливейшим днем в своей жизни, ибо мир был заключен на таких превосходных условиях, которых ни Петр Великий, ни императрица Анна за всеми трудами получить не могли».
«Теперь, – писала Екатерина в Казань Павлу Потемкину, – осталось усмирить бездельных бунтовщиков, за коих всеми силами примусь, не мешкая ни единой минуты».
Потемкин отвечал ей превыспренным посланием: «Сей мир не одну только славу оружия возвышает, но перед целым светом доказывает премудрость монархини державы российской и великость ее духа. Когда страшная война с Турцией разделила силы российского оружия, объемля круг от Кавказских гор до Белого моря, тогда Европа чаяла видеть Россию на краю падения. Премудрые учреждения вашего величества и высокие предприятия явили всем державам, что может сделать государыня, имея дух столь великий.
Совершенный с Турцией мир возвысил славу пресветлого вашего имени, укротил надменность завидующих держав, обрадовал народ и преподает ближайшие средства к искоренению внутреннего врага. Имея ныне более свободы к истреблению его, уповать должно, что сие скоро кончится. Дело великого духа вашего величества, чтоб наказать неблагодарный народ и миловать врагов своих».
(Екатерина так и поступила: она оказала милость своему врагу Петру Панину и дала ему право «неблагодарный народ» наказывать.)
В интимной беседе Григорий Александрыч говорил Екатерине:
– Ну, матушка Катенька, теперь плавай на здоровье. Ныне тебе не страшны ни Пугачев, ни Панин, ни кто-либо тре-е-тий! – подчеркнуто произнес он, вскинув мясистую руку и погрозив пальцем.
Екатерина поняла, что под словом «третий» надо разуметь великого князя Павла с его партией. Глаза ее увлажнились, она взглянула на Потемкина с чувством глубочайшей благодарности.
– Гришенька, – сказала она. – Я хочу знать о процветании нашей внешней торговли, чтобы связно доложили мне и, елико возможно, обширно. Пригласи для этой цели, пожалуй, кого-либо из Вольного экономического общества, ну того же Сиверса, буде он еще не уехал.
С верхов Петропавловской крепости 24 июля загрохотал салют в 101 выстрел. Начались торжества, длившиеся трое суток. Вся Россия особым манифестом была оповещена о благоприятном мире с Турцией. В глухих углах обширнейшей России, где давным-давно забыли про войну, встретили известие о мире как нечто неожиданное, а в иных отдаленных трущобах впервые услыхали, что когда-то началась война с «неверными» и что она закончилась. Многочисленные пленные турки партиями отправлялись к себе на родину по завоеванному Россией Черному морю. Те из них, что кой-где сражались совместно с гарнизонами против Пугачева, получили награждение. Некоторые, приняв русское подданство и поженившись на деревенских девках, пожелали навсегда остаться в новом отечестве.
Засим правительство поспешно открыло энергичные действия против Пугачева.
На усмирение восстания решено было отправить генерал-поручика Суворова. Семь конных и пеших полков, квартировавших в Новгороде, Воронеже и других городах, получили приказ немедленно двигаться к Москве, причем сильный воинский отряд должен был занять Касимов, как пункт, из которого удобно действовать на Москву и Нижний Новгород. Московское дворянство приступило к формированию боевого корпуса.
В это время в самой Москве и окрестностях ее было неспокойно. Простой люд – рабочие, фабричные, крестьяне, многочисленная дворня, а отчасти ремесленники и мещанство – вел себя развязно и с полицией задирчиво. Нередко между дворовыми людьми и их господами происходили несогласия. На рынках, по площадям, тупичкам и улицам народ гуртовался в толпы. Шли шепотки, а иногда и крамольный разговор в открытую. Имя царя-батюшки, освободителя, было желанным предметом шумных бесед в трактирах, обжорках и на воздухе. С полицией и будочниками случались кровавые схватки. Иногда в толпе появлялось оружие. За последний месяц было схвачено несколько «пугачевских агентов». После допроса с пристрастием их вешали во дворе тюремного замка.
Достаточной воинской силы для борьбы с начавшимся народным движением у князя Волконского до сих пор не было. Но с заключением мира с Турцией в Москву уже начали прибывать войска, и обстоятельства резко изменились в благоприятную для правительства сторону.
Волконский всю площадь пред своим домом уставил орудиями, усилил разъезды по городу, приказал полиции зорко следить за сборищами.
25 июля он объявил московским департаментам правительствующего сената, что Пугачев двинулся на Курмыш и намерен сделать покушение на Москву. Сенат постановил, чтобы все денежные суммы городов Московской губернии немедленно были отправлены в первопрестольную и чтоб сведения о движении самозванца были сообщаемы сенату ежедневно с нарочным. Сенат призывал к самозащите как дворян, так и торговый люд с мещанами. Провинциальные канцелярии, в свою очередь, просили Волконского прислать им воинские силы, порох, ружья и орудия.
Нижегородский губернатор сообщил Волконскому, что мятежники уже вступили в его губернию и разделились на две части: одна направилась к селу Лыскову, другая – к Мурашкину, то и другое село в восьмидесяти верстах от Нижнего. Губернатор просил у Волконского помощи. Волконский послал в Нижний двести человек донских казаков, а также сформировал отряд из двух конных полков под начальством генерал-майора Чорбы, приказав ему охранять подступы к Москве.
Екатерина почти ежедневно писала Волконскому, диктуя ему те или иные указания. Волконский на одно из таких писем отвечал: «Здесь за раскольниками недреманным оком чрез полицию смотрю, но еще никакого подозрения не вижу. Впрочем, всемилостивая государыня, здесь все стало тихо, и страх у слабых духом начал уменьшаться».
Наоборот, Петр Панин смотрел на видимое спокойствие Москвы по-иному. Ему было выгодно представить состояние дел в самых мрачных красках, чтоб получить более обширные полномочия и таким образом увеличить в будущем свои заслуги. Он писал своему брату, что «весь род всего дворянства терзаются внутренно и обливаются слезами, ожидая себе жребия, случившегося в Казани. Видя огромный город обнаженным от войск, не знают, что делать, куда отправлять свои семейства...» «Прошу тебя припасть, вместо меня, к ногам государыни, омыть их слезами благодарности за возобновление доверенности и уверить ее, что никто никогда в нерушимой моей верности и усердии собственно к ее величеству и к отечеству не превосходил и не превзойдет, потому что я не притворством, а существом службы на оное готов был и есмь всегда посвящать мой живот».
В тот же день, кривя, казалось бы, неподкупной душой, он писал к своему вчерашнему врагу – Екатерине:
«Повелевайте, всемилостивая государыня, и употребляйте в сем случае всеподданнейшего и верного раба своего по вашей благоугодности. Я теперь, мысленно пав только к стопам вашим с орошением слез, приношу мою всенижайшую благодарность за всемилостивейшее меня к тому избрание и дерзаю всеподданнейше испрашивать той полной ко мне императорской доверенности и власти, в снабжениях и пособиях которых требует настоящее положение сего важного дела и столь далеко распространившегося весьма несчастливого приключения».
Екатерина читала письмо с неприятным волнением, она кусала кривившиеся губы, глаза то победоносно улыбались от сознания, что ее враг унижен, то в ее взоре отражались огоньки истинного страха за себя, когда она видела, что этот опасный человек настойчиво добивается для своей персоны неограниченных прав. Она еще и еще раз вчитывалась во фразу: «дерзаю всеподданнейше испрашивать полной ко мне императорской доверенности и власти...» – и лицо ее покрывалось розоватыми пятнами.
Петр Панин в дальнейших строках этого письма «всеподданнейше испрашивал», чтобы ему были подчинены не только войска, но все гражданское население, правительственные учреждения, судебные места, городские управления и чтобы над всем подчиненным ему населением он имел власть живота и смерти; чтоб он мог по своему произволу и усмотрению распоряжаться всеми войсками, находящимися внутри империи и пр. А сверх того Панин просил об отпуске ему достаточной суммы денег, но не ассигнациями, а золотом и серебром.
Дивясь тому, что «враль и ее персональный оскорбитель» столь резко переменил свои отношения к ней, императрица старалась объяснить это изменчивостью человеческой натуры и превратностью мира вообще. Она продолжала страшиться Петра Панина, как своего замаскировавшегося врага, но тем не менее, уступая навязчивости его брата и помня изречение Потемкина – «он прежде всего враг Пугачеву, а потом уж и тебе», императрица в конце концов решила назначить графа Петра Панина главнокомандующим. Причем, советуясь с Потемкиным, она подчинила ему только те войска, которые уже были определены для прекращения смуты или находились на театре действий, а также возложила на него право верховодить гражданским управлением лишь трех губерний: Казанской, Нижегородской и Оренбургской. Она отказалась подчинить ему Секретные комиссии и не дала полного права «живота и смерти». Напротив, зная понаслышке черты жестокости в характере Петра Панина по отношению к «черни», Екатерина в рескрипте от 29 июля 1774 года с тайным, вероятно, двоедушием писала ему: «Намерение наше в поручении вам от нас сего государственного дела не в том одном долженствует состоять, чтоб поражать, преследовать и истреблять злодеев, оружие против нас и верховной нашей власти восприявших, но паче в том, чтоб поелику возможно, сокращая пролитие крови заблуждающихся, возвращать их на путь исправления, чрез истребление мглы, души их помрачавшей».
Отвергнув притязания Петра Панина на полноту власти, императрица ограничила его будущую деятельность определенными рамками закона. Подобное действие Екатерины сильно омрачило обоих братьев Паниных. Особенно не понравилось это главнокомандующему, и в его душе снова закипела злоба к порфироносной немке.
Под команду генерала Петра Панина начали поступать воинские силы. Волконский передал ему отряд генерала Чорбы в 3162 человека при восьми орудиях. Остальные войска подходили к Москве или сосредоточивались в местностях, охваченных восстанием. Так, в Оренбурге, кроме крепостного гарнизона, стояли три легкие полевые команды Долгорукова; на полпути от Оренбурга по Ново-Московской дороге и в Бугульме находились отряды Юшкова и Кожина. В Башкирии, по реке Белой, от Уфы к Оренбургу, действовал отряд полковника Шепелева. Верхне-Яицкую линию защищал генерал-майор Фрейман. Уфа была прикрыта отрядом полковника Рылеева. Были защищены войсками города Мензелинск, Кунгур, Красноуфимск, Екатеринбург. Крупный корпус Деколонга прикрывал Сибирскую линию. После переправы Пугачева за Волгу генерал Мансуров, оставив Яицкий городок, двинулся к Сызрани. Преследование Пугачева возлагалось на Михельсона, Меллина и Муфеля. Сверх того были двинуты полки из Крыма, из-за Дона и с Кубани.
Итак, в распоряжении главнокомандующего находились и еще должны были поступать громадные силы. Екатерина писала ему: «Противу воров столько наряжено войска, что едва ли не страшна таковая армия и соседям была».
На самом деле, на поле действий к концу июля уже находились восемь полков пехоты, девять легких полевых команд, восемнадцать гарнизонных батальонов, восемь полков регулярной кавалерии, четыре донских полка, полк малороссийских казаков и другие более мелкие части.
Таким образом, против Емельяна Пугачева, под конец его деятельности, была выставлена целая армия.