Больше рецензий
21 мая 2019 г. 00:15
6K
5 Как страшно быть серьёзным
Рецензия«- У вас в дневнике часто встречается страшное слово «акция».
- Я не могу его слышать. Теперь акция – это когда продукты в магазине дешевле стоят. А у нас акции — это были массовые расстрелы, когда людей увозили в Понары и там убивали»
Из интервью с М. Рольникайте
Дневник, который 14-летняя Маша Рольникайте начала вести в вильнюсском гетто, называется «Я должна рассказать». И одно только это название — уже подвиг, без преувеличения. В том же самом возрасте мой отец провёл 282 дня в блокадном Ленинграде — эти цифры всё, что мне теперь известно, и даже если б отец был жив, я вряд ли стала бы осаждать его вопросами о повседневных подробностях ада, неделикатно взламывая наглухо замурованные воспоминания. Он прожил яркую жизнь, полную творчества, картин, книг, красивых женщин, неординарных друзей, талантливых учеников, он был вольнодумец, эрудит, путешественник, охотник и острослов, он «был предназначен для первой любви» — и обзавёлся кучей детей, когда его ровесники скрипя начинали осваивать активные виды спорта: занять очередь в поликлинике спозаранку и погреть кости на лавочке у подъезда. Он умер, когда 14 было мне, и я успела услышать сотни из тысяч историй, в которые он то и дело попадал, даже такие, что не предназначены для нежных ушей вовсе, — завораживающим рассказчиком он тоже был. Только те самые, отсчитанные метрономом до минуты 282 дня, такие далёкие, но случайным образом оказавшиеся в одном поколении от меня — рукой подать и наткнуться на стену— слепая мёртвая зона, и в этом мой обожаемый и уникальный отец такой же как многие. Я не знаю, снились ли ему артобстрелы и обледеневшие трупы, выбирал ли годы спустя более безопасную сторону улицы (как он вообще мог вернуться и снова ходить по этому городу?), проваливался ли обратно в кромешный кошмар вечной зимы, было ли ему там постоянно и отчаянно страшно или ежедневное ожидание — смерти, избавления, рассвета — превратилось в изнурительную привычку. Я не знаю, и совсем не уверена, хочу ли знать. Воображение упорно отказывается дополнять реальность официальной кинохроники и узаконенных чужих воспоминаний фигурой долговязого подростка, черты которого я иногда угадываю в зеркале. И чёлку со лба — тем же движением руки. И помнить я стану без наложения шершавых ч/б фильтров: огромные окна мастерской, вкуснейший запах скипидара и масляных красок, голос, чуть фальшиво напевающий из Травиаты или про артишоки и миндаль не растут на ёлке, очень жаль, изумрудных драконов и рыцарей, мгновенно появлявшихся из под его руки, безупречно отглаженные рубашки, или вот, когда я плаксиво отказалась есть слишком сопливую яичницу — он выкинул её в окно вместе со сковородкой. Жизнь побеждает, даже после смерти.
Да, люди, пережившие настоящую войну — уродливую, бесконечно бессмысленную, сдирающую тонкую плёнку иллюзорного благополучия, под которой копошится кромешное, — с неохотой говорят об этом чудовищном опыте, с трудом подбирая слова среди самых общих и расхожих, иногда вздыхая: «О моей жизни книгу можно было б написать», — или не говорят совсем, пока и говорить-то становится некому. И другие люди — так называемые потомки — это негласное табу поддерживают с плохо скрываемым облегчением. Не имеет смысла спорить с этой простой до банальности истиной, предъявляя длинные, с каждым годом растущие, списки мастрида о войне под разными углами, холокосте и лагерях смерти — порой кажется что её даже слишком много, сколько ж можно. Но живых свидетелей, которых жгла изнутри невозможность молчать, необходимость рассказать правду, не замутненную ни риторикой, ни пропагандой, ни вздорным романтическим флёром, ни благородно вскипающей яростью, ни оправдательной логикой, людей, готовых никогда ничего не забывать для того, чтобы не дать забыть остальным, не позволяющих ранам затягиваться, оставляющих нервы оголёнными, не скидывающих на мёртвых обязанность хоронить мертвецов — хорошо если десятки, одарённых же авторов, таких как Мария Рольникайте, мастерски владеющая ключами к нужным словам и верным интонациям без замогильного завывающего пафоса и литературщины — и того меньше, и книги их в бестселлерах числятся редко. Зато там всегда есть место для хромого на все конечности сиротинушки «Книжного вора», ублюдочного «Мальчика в полосатой пижаме» и прочей спекулянтской клюквенной пастилы с регуляторами кислотности и усилителями вкуса, которая заполняет пустоту, не насыщая, и очень удобна, чтобы лепить легенды — всегда 1:0 в пользу «возвышающего обмана».
И я тоже не стала читать Машин дневник — потому что очень некомфортно же, когда табуретка постиронии, взобравшись на которую так легко трещать обо всём подряд, оказывается вдруг совершенно неуместной, вышибается одним точным ударом и ты оказываешься вдруг в безвоздушном пространстве наедине с аксиомой «не умеешь писать просто — просто не умеешь писать», наедине с теми самыми словами, расхожими и общими, (а других-то, оказывается, и нету), тлея от стыда за свои мелкие амбиции и ничтожный страх впасть в патетику, дидактику или привычно ляпнуть что-нибудь некстати. Нет, уж лучше подавать ананасную воду, уж лучше снова 800 страниц от лица девиантного офицера СС фон Ауэ, чем этот короткий и душераздирающий текст, написанный остро чувствующим ребёнком на волосок от смерти — он делает меня беззащитной. Или, если уж есть возможность выбирать из книг Рольникайте одну, о которой я должна рассказать - пусть, ну пожалуйста, это будет хотя бы что-нибудь зрелое и «художественное», попадающее под радары критики, и я малодушно буду рассматривать не суть, а «авторский почерк», стиль, слог, безударные гласные — в конце-то концов, существование не каждой книги оправдывается значимостью выбранной темы.
Хотя бы. «Свадебный подарок, или На черный день» - это, да, повесть, произведение по определению призванное воспроизводить «естественное течение жизни». И по-началу все более чем естественно: попрыгунья Юлька выходит замуж за Володю, многочисленное хлопотливое семейство которого дружно готовится к этому событию, решая чтобы такого подарить молодожёнам, полезного, дорогого и дефицитного: золотые запонки, японские часы? Только вот у невесты есть альбом «Мои родственники — погибшие на фронте и расстрелянные гитлеровцами» и больше никого, кроме «единоутробной тётки», которая без содрогания не может слышать про все эти коралловые гарнитуры, которые пригодятся «на черный день». Будто забыли все вокруг: упитанные, довольные, обвешанные цацками, спорящие о мелочах, - что чёрные дни — это не временные финансовые затруднения. Ладно, пусть остальные дарят, что хотят, и пьют кофе-гляссе — она подарит другое, и ясно станет, что такое настоящие чёрные дни и что тогда становится главным. Вот тебе, племянница, мои записки об оккупированном городе, я должна рассказать, а ты — услышать. На этом мирная жизнь — страниц 5 — заканчивается, и подобное воспитательное интро в духе «а в африке дети голодают» могло бы вызвать отторжение, чуть перегни Рольникайте с критикой успокоенного и самодовольного мещанского духа. Но это так — вскользь, больше с грустью, чем с гневом, и уже на следующей странице, боясь пошевелиться в тёмном подвале разрушенного бомбами дома, где прячется сбежавшая из гетто еврейская семья, украдкой, ночными вылазками, подбирая картофельные очистки, - понимаешь, что маленькая смелая женщина права, и молча забывать — преступление. Без всяких спецэффектов и нарочитых мелодраматических поворотов, она будет описывать день за днём, человека за человеком: любой ценой пытающихся выжить и тех, кто, обмирая от страха за собственную жизнь, хоть чем-то пытается помочь, и других, слишком многих — кто запросто способен наживаться на унижении, мучениях и смерти недавних соседей, ненавидеть гонимых, принимать гетто и «акции» как должное, самим участвовать в расстрелах. Силы зла безраздельно властвуют в маленьком Вильнюсе, но мы не встретим на этих страницах никаких хрестоматийных нацистских маньяков в очках в тонкой металлической оправе с тонкой же жестокой усмешкой сверхчеловека, сверхнелюдя на тонких губах— единственный немецкий персонаж книги — уехал в отпуск в фатерленд. Остались только «свои». Люди убивают людей. Кто равнодушием, а кто и автоматом. Всё забывается — естественное течение жизни, но Рольникайте напомнит, это её крест:
И знаете, за что у меня болит сердце: ведь с тех пор люди так и не стали друг друга больше любить!
Теперь знаем, Маша, но разве ж можно вот так в лоб, так серьёзно?
ДП-2019. Май. Основное. "Сетка шведских мандаринов"

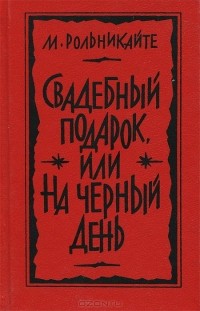
Комментарии
Какая большая рецензия! И да, очень хорошая
Спасибо, что дочитали)
Хорошая рецензия!? Я решительно протестую ! Только подумать! С таким тонким, но от этого не менее ядовитым сарказмом наброситься на великолепную, умопомрачительную, почти уже гениальную, оригинальную для читателя, но стабильно прекрасную для автора ну и какую там еще - рецензию? На этот трогательный гуманистический манифест от которого хочется вырваться из своего уютного мещанского мирка на свободу, где боль, сострадание и надежда. Когда же, когда же мы сможем избавиться от давящей пошлости эгоистической самозамкнутости, когда, понимаешь, научимся любить и отдавать себя на съедение этим пираньям современного гедонизма или лучше сказать львам, которые ходят и желают всех поглотить...
И да, вы ничего не поняли, если решите, что все - это одно сплошное злое издевательство )
пираньи и львы гедонизма, серьёзно? не, должны быть гепарды. Альбатросы альтруизма, утки утилитаризма, индюки индивидуализма, грифоны графомании. Тиграм тирании трюизмов мяса не докладывают! Не буди во мне крокодила креативности, мегалодон метафоры!
А вообще, ты прав - я тоже ничего не поняла