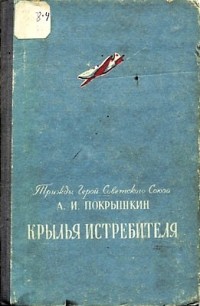Больше рецензий
8 января 2020 г. 13:13
365
4 «Истребитель! Ищи встречи с противником. Не спрашивай: сколько противника, а где он?»
Рецензия«Должен признаться, что я люблю лётчиков. Если я узнаю, что какого-нибудь лётчика обижают, у меня прямо сердце болит. За лётчиков мы должны стоять горой». (Сталин И.В.)

Емкая и толковая книжка воспоминаний Александра Ивановича Покрышкина. Его путь в истребительную авиацию начинается с технической школы, где он изучал самолеты бипланы конструкции Поликарпова. После технической школы был командирован в Качинскую лётную школу. Войну начал на самолете «МиГ». Это была выносливая машина. На больших высотах она вела себя отлично: её скорость и манёвренность возрастали. Александр Иванович описывает реакцию летчиков на обращение Сталина к народу от 3 июля 1941 года. «Какой подъём царил на нашем полевом аэродроме после выступления товарища Сталина! Каждый лётчик, механик, офицер штаба ревностным исполнением своего воинского долга стремился принести наибольшую пользу общему делу советского народа — непримиримой, самоотверженной борьбы с врагом. Многие пилоты, уходя в бой, брали с собой портреты товарища Сталина. Маленькая фотография Иосифа Виссарионовича была установлена и на приборной доске в кабине моего самолёта.» Из странностей войны в воспоминаниях Покрышкина хочется выделить тот факт, что бомбардировщики, чей аэродром находился возле аэродрома истребителей, вылетали на задания без прикрытия истребителями. «— Почему вы не организуете сопровождения истребителями? — спросил командира бомбардировщиков, заехавший на аэродром старший авиационный начальник. — Я считаю это излишним, — с некоторым оттенком показной лихости доложил тот. — Мы летаем в плотном строю и хорошо обеспечиваем самооборону…» Да и у истребителей было не все гладко. Например, напрочь отрицалось такое понятие, как «групповой бой». «…люди, о которых идёт речь, по сути дела отрицали возможность организованного, управляемого группового воздушного боя.» Всё сводилось к тому, чтобы защитить хвост впереди идущего самолёта, и бой сразу принимал оборонительный характер. А истребители, связанные «кругом», не могли свободно маневрировать, направлять и концентрировать силу своих ударов. Александр Иванович начинает отрабатывать свою «фишку» - восходящую спираль. «Этот манёвр оказался единственной, или почти единственной возможностью лишить противника удобной, позиции для атаки. Позже я отшлифовал его, широко применяя боевую вертикаль». Когда ему пришлось вместе со своим самолетом пробиваться сквозь немецкие заслоны, то именно Покрышкин возглавил прорыв, поставив самолет на грузовик, выдвинув вперёд бронемашину и вооружив бойцов гранатами. Покрышкин тщательно изучает «мессершмидт» во всех деталях, вплоть до каждого шплинта и испытывает её характер и в воздухе.
Интересный факт: рассчитывая на быструю победу над Советской Армией, немцы оснастили свои воздушные флоты самолётами и моторами, мало приспособленными к различным климатическим условиям, которые имеются в нашей стране. Это, например, сказалось на такой машине, как Хейнкель-113. В немецкой печати этот истребитель кичливо провозглашался «королём воздуха». Наши же техники и лётчики прозвали его «самоваром. Конструкция мотора этого самолёта была такой, что при понижении окружающей температуры его охлаждающая система отказывала, мотор начинал парить, заклинивался и немецкому пилоту приходилось тотчас же идти на вынужденную посадку.
«Когда наши войска захватили немецкий аэродром, прибывшие туда для осмотра трофеев техники обратили внимание на довольно странную вещь. К моторам некоторых немецких самолётов на металлических тросах были подвязаны камни. Для чего? Взятый в плен немец-механик объяснил: так они подогревали моторы перед запуском. Камни сначала накалялись на кострах, а затем подвешивались к самолётам.»
Да и вообще, по версии Александра Ивановича, в самолётном парке немцев, как оказалось, за всё время войны не появилось ни одной новой конструкции. Почему? Да потому, что, несмотря на наличие в руках врага добрых полутора сотен самолётов моторостроительных заводов, расположенных и в Германии, и в оккупированных ею странах Европы, т. е. весьма мощной авиационной промышленности, он с большим трудом восполнял потери, которые несли его воздушные флоты в боях с советскими лётчиками. Ведь не прошло и ста дней с начала войны, как на наших полевых аэродромах появился совершенно новый тип боевого самолёта, самолёта-штурмовика конструкции С. Ильюшина. Фронт получил прекрасные истребители А. Яковлева и С. Лавочкина, отличные бомбардировщики В. Петлякова. Эти машины и машины других советских конструкторов приходили на фронт в массовом количестве.
Землянка Покрышкина на полевом аэродроме шутливо именовалась «конструкторским бюро». Стены её были увешаны схемами и чертежами манёвров истребителей. Всё самое ценное в тактике, что создавалось лётчиками его части, находило своё отражение в этих эскизах и схемах. Всю войну с ним кочевал альбом воздушного манёвра. Он пополнялся новыми фигурами, идеями и мыслями, возникавшими в процессе боёв. Альбом открывался девизом: «Истребитель! Ищи встречи с противником. Не спрашивай: сколько противника, а где он?» В альбом был занесён и манёвр с восходящей спиралью, и новый манёвр, связанный с уходом под трассу противника. «По замыслу должно было получиться так: в случае если «мессер» зайдёт мне в хвост, я ухожу под трассу его пуль «бочкой». Эскадрилья Покрышкина в части считалась экспериментальной.Ее лётчики всё время старались изыскивать и проверять на практике наиболее передовые методы борьбы с противником. Покрышкин принимал участие в Кубанском воздушном сражении, которое длилось семь недель. «На Кубани мы летали с зари до зари. От большого физического напряжения, постоянного пребывания на больших высотах, полётов на повышенных скоростях многие пилоты ходили с красными глазами, буквально шатаясь от усталости. Но, несмотря на необыкновенную интенсивность боевой работы, острая, творчески направленная мысль наших лётчиков настойчиво искала и успешно находила новые приёмы борьбы. Быстро развиваясь, эти приёмы создавали нам преимущество над врагом, вели к новым успехам.» Читаешь эти строки и хочется передать «пламенный привет» создателям известного фильма, где летчики все пели, да плясали… Покрышкин принимает на вооружение боевой порядок под кодовым названием «этажерка». «Это было ступенчатое, эшелонированное в высоту и достаточно широкое по фронту построение значительной группы самолётов. Каждая ступенька «этажерки» выполняла свою, строго определённую роль.» Когда к ним в эскадрилью прислали новых летчиков, то их обучали по системе «Покрышкина». Александр Иванович подробно рассказывает о том, как он обучал Георгия Голубева, автора книги «В паре с «сотым». «Истоки голубевского «вдруг» лежали в неправильном понимании бытовавшей в лётной среде крылатой фразы «ведомый — щит ведущего», в огульном применении её во всех без исключения случаях. Я тут же постарался объяснить Голубеву ошибочность его взгляда. Правильнее было бы сказать, что они оба, и ведущий и ведомый в одинаковой мере должны быть щитами друг для друга.» Покрышкин настаивал на принятии ведомым участия в наступательных действиях. «И вот, вылетит на поиск противника патруль из шести лётчиков, а дерутся с врагом, наносят ему удар только двое. Почему? Да потому, что командир патруля пару машин назначит в верхний ярус, для прикрытия, а в его ударной четвёрке активную силу — «мечи» — представляют только ведущие пар, Вот и выходит, что почти весь патруль занят прикрытием, а уничтожать противника может только треть лётчиков.» В то время, как в других эскадрильях не особо приветствовалась свободная охота, Покрышкин ратовал за нее. «Нигде так ярко не проступает закон взаимодействия между ведущим и ведомым, как в «свободной охоте». «Свободная охота» — это наивысшая форма боевой деятельности истребителей. Лётчиков, желающих быть «свободными охотниками», у нас насчитывалось много. Но не каждый мог стать им.
Мы стимулировали у наших лётчиков желание идти в «свободную охоту». Большая честь завоевать право на этот вид воздушного боя. Именно в свободной охоте я сбил «юбилейный» — пятидесятый вражеский самолёт. Это был «физелер-шторх», — немецкий самолёт связи.» Особенно хорошо шло дело у «свободных охотников», которых возглавлял дважды Герой Советского Союза Владимир Лавриненков. В принципе, немецкие летчики, которые большей частью сражались из-за материального интереса, никак не могли сравниться с советскими летчиками, которые сражались за правое дело. За 1943 год немцы потеряли около 14 000 самолетов. Поражает тот факт, что многие из командиров приоритетом считали не уничтожение вражеских бомбардировщиков, а именно истребителей. «Они считали, что всё зло в «мессершмиттах», а поэтому борьбе с вражескими бомбардировщиками внимания уделяли недостаточно.» Из-за плохой организации и не логичности командования, нашим летчикам, даже в конце 1943 года, когда перевес в боевой технике был за нами, приходилось вступать в бой с значительными силами немецких бомбардировщиков. «Получалось это потому, что масса наших истребителей не могла, попусту тратя горючее и моторесурсы, целыми днями висеть над полем боя. Высылая вперёд авангард — воздушные патрули, — авиационные командиры остальную часть истребителей держали в кулаке, на аэродромах, и по мере надобности поднимали их в воздух, наращивая силы. Почти неизбежная необходимость атаковывать крупные отряды немецких бомбардировщиков сравнительно меньшими силами требовала от лётчиков авангардного воздушного патруля исключительной напористости, изворотливости и смелости.» Довелось Александру Ивановичу осваивать и печально знаменитую «кобру», на которой американские летчики отказывались воевать. Уделяет Покрышкин внимание и огрехам наших летчиков. Особенно штурмовиков.
«Группы «ильюшиных» одна за другой возвращались с поля боя и, снаряжаясь, уходили в воздух.
— Как дела? — спросил он командира штурмовиков.
— Бьём, товарищ генерал! — ответил ему тот.
— Ну и как всё же бьёте?
— Где увидим, там и бьём! Покою не даём немцу…
Лёгкость суждения штурмовиков несколько озадачила и насторожила командира. Он понял, что они фактически не знали направления отхода главных колонн противника, наносили удары только по случайным группам немцев. Оказалось, что штурмовики действительно «где видели — там и били», причиняя врагу малый ущерб. А в это время густая неприятельская колонна в стороне безнаказанно и относительно организованно уходила на тыловой оборонительный рубеж.» Но это большей частью било виной командования, а не летчиков. А летчикам оставалось просто делать свое дело – воевать и воевать хорошо, до потери сил. Печально, что в долбанном советском кино этот факт старательно пытались обойти стороной, отвлекая зрителя всякой чепухой о концертной самодеятельности… Аминь!